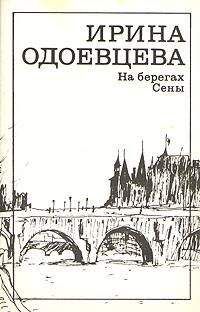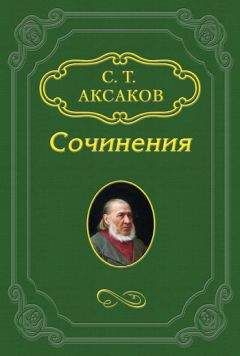Ирина Одоевцева - На берегах Сены.
Адамович пожал плечами.
— Не согласен. Но давайте не спорить. Терпеть не могу спорить. Доказывать утомительно, но и молчать, когда хочется возражать, тоже утомительно. Мне с вами так легко оттого, что я с вами почти всегда одного и того же мнения. Вы меня и я вас с полслова понимаем. Должно быть, оттого, что когда-то мы с вами вместе дышали петербургским воздухом тех баснословных лет — «Блажен, кто им когда-нибудь дышал».
И, как он постоянно делал, перескакивая с темы на тему, без связи между ними, продолжал:
— Довид Кнут был настоящий поэт. А кто его теперь помнит?
Я кивнула и произнесла нараспев:
Имя тебе непонятное дали — ты забытье,
Или, вернее, цианистый калий имя твое.
Он улыбнулся.
— Что ж? Вот вы и без спора как будто победили меня. Сознаюсь, мне очень приятно, когда меня цитируют, когда помнят мои старые стихи наизусть. Все же, повторяю, я не честолюбив и даже скромен.
Спорить мы в ту, почти последнюю, встречу не стали. Разговор перешел на общих знакомых в Америке — кто как живет и что делает. И кто помнит меня и просил мне кланяться.
Теперь я спрашиваю себя — был ли Адамович скромен? И, вспоминая всевозможные факты его жизни и всяческие его высказывания, почти с уверенностью могу ответить — да. Он был скромен.
Конечно, это не мешало ему быть самолюбивым и памятливым. Я не хочу сказать — злопамятливым; хотя все обидное, сказанное о нем, помнил десятками лет, онникогда не мстил за обиды. Но нанесенные его самолюбию обиды все же эмоционально окрашивали его суждение об обидевших его.
Так, он, сам того не сознавая, не мог простить Марине Цветаевой ее «Цветника», кстати, чрезвычайно неудачного критического произведения, совсем недостойного ее таланта. Она, так великолепно умевшая восхищаться, не умела, как учил когда-то Чуковский, «проткнуть острым пером врага так, чтобы раненого унесли с поля битвы». Адамович, несмотря на одно из лучших его стихотворений, посвященных ее тени, «Поговорим хотя б теперь, Марина», до конца, по существу, остался ей враждебен и в своем последнем письме из Ниццы писал мне: «Вчера я писал разные мелочи для себя и для вечности впрок и написал, что трех писателей мне иногда читать неловко (за себя и за них) в нисходящем порядке: Достоевского, Розанова и Цветаеву».
Конечно, его многое раздражало в неудержимом размахе Цветаевой. Раздражал ее московский стиль, его коробило от ее эгоцентризма и мифотворчества. Но если бы не было ее злосчастного «Цветника», он все же, я думаю, гораздо снисходительнее судил бы о ней. Особенно после ее трагической смерти.
Хотя это и кажется парадоксальным, Адамович в стихах меньше всего ценил талант.
— Слишком безудержно, слишком пенится, звенит и летит. Слишком талантливо, — говорил он о стихах одного из наших лучших поэтов. — Признаю все достоинства, но они оставляют меня холодным, а стихи должны волновать и задевать.
Таланту он предпочитал одаренность, ум, чувство меры, экономию средств, умение вовремя замолчать. Так, он считал, что «поистине без волнения внимать невозможно» стихотворению Баратынского:
Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой,
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.
И был «готов смиренно преклонить колени» перед автором, как он сам писал в своих «Комментариях».
Это было наше с Адамовичем единственное крупное расхождение во взглядах и вкусах. Нет, я совсем не была согласна с ним. Но это не вызывало ни спора, ни пререканий. Он говорил только:
— Что ж? Это доказывает, что у вас безошибочный, правильный вкус и слух на все дурное, а о прекрасном вы иногда судите неверно.
— А может быть, — отвечала я, — вам кажется, что я всегда правильно сужу о дурном оттого, что и вы того же, как и я, мнения. А на самом деле мы оба ошибаемся. И это совсем не плохо, а только нам обоим кажется плохим.
Он кивнул:
— И это возможно. Но Баратынского я вам не уступлю.
— Зато я вам с удовольствием уступлю место в его строгом раю. Довольно с меня мучений и неприятностей на земле. В раю я надеюсь блаженствовать.
Он рассмеялся.
— Спасибо. С охотой займу ваше место.
На этом и закончился наш несостоявшийся спор. Я почувствовала, что говорить о моем возмущении не следует, что это может кое-что испортить. «Если надо объяснять, то не надо объяснять», — часто повторяла Зинаида Гиппиус. И это было особенно правильно в отношении Адамовича. Он понимал с полуслова, без объяснений, или не понимал вовсе. Не принимал, не соглашался, несмотря ни на какие объяснения и доводы. В стихах он больше всего ценил не «за сердце хватающие строки», не «звуки небес», не «доплеснуть до луны», а тяжесть слов, падающих подобно камням. Паузы и то, что скрыто за паузами.
Еще до войны мне — и не мне одной — казалось, что Адамович не очень любит стихи, что для него лучшее стихотворение не стоит «непоправимо белой страницы». Одним словом, что парадоксальное утверждение «современная музыка идет к молчанию» могло быть повторено и в отношении поэзии, и что поэзия идет к молчанию, и Адамович всеми силами стремится помочь ей в этом.
Но я, конечно, ошибалась. В чем смиренно сознаюсь. Редко кто так любил и так мучился поэзией, как он. Он жил и дышал ею.
Как всегда, когда я пишу или говорю об Адамовиче, я уклоняюсь в сторону, я уношусь или вперед, или назад в воспоминанья. Я слишком много думала и знала о нем, он играл слишком большую роль в моей жизни. Мне трудно остановиться на каком-нибудь часе или дне, проведенном с ним, трудно правильно, последовательно писать о нем. Он как-то слишком не то что велик, вернее, глубок, слишком широк и многообразен.
«Mouvante comme 1'onde»[31] — так он неоднократно и в письмах, и в разговорах характеризовал меня и прибавлял: «оставаясь неизменной». Но и сам он был такой же, оставаясь, по существу, неизменным.
Как-то после выхода моей книги «На берегах Невы» мы говорили о том, как надо писать воспоминания. Я спросила его, хочет ли он, чтобы я написала о нем. И он ответил:
— Хочу, конечно, вы ведь пишете доброжелательно. Пожалуй, даже слишком доброжелательно. Все всегда у вас лучше, чем были. Немного такие, как их задумал Бог, вы смываете с них их грехи и пороки. Они как отражение в магическом зеркале. Вы так ловко это делаете, что они все у вас оживают. Но неужели вам не хочется рассказать про них и дурное? Они от этого еще выиграли бы. Неужели вам не хочется показать их неприукрашенными, в их «натуральном безобразии»?
Я покачала головой:
— Не хочется. Я ведь никогда не привираю. Я только иногда не все говорю, что знаю.