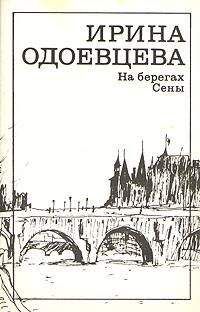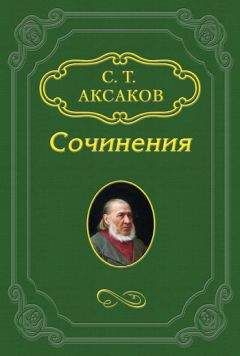Ирина Одоевцева - На берегах Сены.
Все это читалось довольно вяло и настоящего успеха — хотя тут было много интересного — не имело. Но сам Шаршун никогда и нисколько не сомневался в своей гениальности, как художника, так и писателя, и спокойно, открыто и без ложной скромности заявлял об этом в разговорах.
Однажды, явившись на очередное, очень бурное «воскресенье», он, еще не успев поздороваться ни с Зинаидой Николаевной и Мережковским, ни с посетителями, заявил не без некоторой торжественности:
— Господа, я всю ночь не спал и пришел к неожиданному выводу. Я не только гениальный художник и прозаик, я еще и гениальный поэт. Вы не можете с этим не согласиться. Вот послушайте.
И он, сбиваясь и запинаясь, заикаясь от волнения, прочел сложное и длинное стихотворение.
На аудиторию ни его провозглашение себя гениальным поэтом, ни его стихотворение не произвели должного впечатления. Только одна Зинаида Николаевна капризно протянула:
— Поздравляю. Вот и у нас появился свой Элюар и русский сюрреалист или подреалист. А мы здесь очень страстно обсуждаем «Распад атома» Георгия Иванова. Садитесь, Сергей Иванович, скорей и слушайте. Хотите моего кофе?
Кофе она пила одна из маленького кофейника. Остальным, в том числе и Мережковскому, полагался чай. Предложение выпить «ее» кофе воспринималось как проявление монаршей милости. Шаршун от него даже слегка обиженно отказался и сел насупившись. Дальнейших отзывов о его «гениальном» стихотворении не последовало, все были слишком увлечены разбором «Распада атома», названного Мережковским «изумительнейшей» книгой двадцатого века.
Стихотворения Шаршуна я не запомнила. На меня оно не произвело большого впечатления. Не могу ручаться, но мне кажется, что оно осталось его единственным поэтическим произведением того времени. Кажется, раньше он писал стихи.
В тот вечер мы, покинув Мережковских, собрались все в кафе, прозванном почему-то «Ла-ба», и тут, в отсутствие Шаршуна, долго смеялись над его выступлением. Что он действительно гениален в какой бы то ни было области, никому из нас и в голову не могло тогда прийти. Его считали слегка тронувшимся милым чудаком.
С живописью его я почти не была знакома. Только однажды побывала у него в студии, и он в тот день подарил мне одну из своих картин. Она погибла в моем доме во время бомбардировки Биаррица, и я до сих пор жалею об этом.
Мы встречались с Шаршуном довольно часто на «воскресеньях» и на Монпарнасе. Георгий Иванов — очень строгий к людям — высоко ценил его как писателя и человека. Но настоящей дружбы у него, как и у меня, с Шаршуном не получилось.
Время шло. Я почти потеряла его из виду в военные и послевоенные годы. И только когда я в 1958 году переселилась в предместье Парижа, в Ганьи, я услышала, что Шаршун стал знаменитым художником, и это очень меня обрадовало.
Но моя встреча с ним произошла значительно позже — в 1973 году, на одном из «Медонских вечеров» в квартире Ренэ Юлиановича Герра, нашего «русского француза», как я прозвала его.
Ренэ Герра — чистокровный француз, хотя по чистоте речи и по своей бороде лопатой может легко сойти за стопроцентного русского. Его молодая жена, дочь русских эмигрантов, кажется гораздо меньше русской, чем он.
Ренэ Герра — литературовед, влюбленный — не нахожу более подходящего слова — в русскую зарубежную литературу и живопись. Его квартира — настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей, писем, фотографий и документов, написанных в эмиграции.
Эти «Медонские вечера» по своему высокому культурно-художественному уровню могли бы даже конкурировать со знаменитыми «воскресеньями» Мережковских. У них для будущего, к тому же, одно несомненное преимущество — все, что говорилось на них, записывалось Ренэ Герра на магнитофоне, тогда как, к сожалению, о том, что говорилось на «воскресеньях», записано лишь в памяти немногих еще оставшихся в живых участников их.
Председателем «Медонских вечеров», устраивавшихся приблизительно раз в два месяца, был Юрий Терапиано, интересно, благодаря своему многолетнему довоенному опыту, ведший их и умевший создавать высокоинтеллектуальную атмосферу.
На этих собраниях из писателей и поэтов бывали Я.Н. Горбов, С.Р. Эрнст, B.C. Варшавский, А.Е. Величковский, И.П. Шувалов, Г.Е. Озерецковский, А.С.Шиманская, А.В. Ровская, Е.Ф. Рубисова и др. Из художников: Ю.П. Анненков, Д.Д. Бушен, М.Ф. Андреенко, Н.И. Исаев и Сергей Иванович Шаршун.
Собрания эти делились на две части — первая посвящалась докладу или новому произведению какого-нибудь из посетителей, разбору его и обмену мнениями. Выступали и художники — Шаршун и Андреенко, Анненков, тоже читавшие свою прозу. Бывали также вечера, посвященные поэзии. Помню один особенно удачный, на котором читали свои стихи Софья Прегель, Величковский, приехавшая с юга Таубер и др.
Вторая часть заключалась в ужине, протекавшем очень весело. Очаровательная молодая жена Ренэ Герра, успевшая уже стать известным врачом, была к тому же хлебосольной хозяйкой, обладающей большими кулинарными способностями. Эти ужины, вкусные и очень веселые, немало способствовали успеху «Медонских вечеров».
Вот на этих ужинах я, сидя рядом с Шаршуном, и возобновила с ним прежние отношения и даже гораздо лучше, чем прежде, узнала его.
Итак — Шаршун передо мной. Первое ошеломляющее впечатление — удивление, похожее на страх. Как же так? Значит, времени нет?
И уводит легонький след —
Прямо в молодость, в... —
нет, не в Летний сад, а в довоенный Париж.
Да. Прежний Шаршун. Абсолютно такой, каким сохранила его моя память. Не постаревший, не облысевший, не растолстевший, не похудевший, не сгорбившийся. Совсем точь-в-точь такой же, как до войны.
Мне даже кажется, что на нем все тот же самый потертый пиджак и старый, криво завязанный галстук. Я просто глазам своим не верю. Ведь за это время те немногие, которые еще не умерли, так изменились, что и узнать нельзя.
А Шаршун совсем прежний. Только волосы седые. Но это почти незаметно — ведь и прежде они были неопределенного пегого цвета. А может быть, он уже и тогда был седым?
Я смотрю на него и вдруг мысленно переношусь в «воскресенья» на рю Колонель Боннэ и вижу Зинаиду Николаевну, как всегда, набеленную и нарумяненную, рыжую, замысловато и старомодно причесанную, в зеленом платье с неизменным лорнетом в тонкой руке. Справа от нее Георгий Иванов, слева — красивый, черноглазый, ставший под конец ее жизни ее лучшим молодым другом Виктор Мамченко, для которого она и «изменила» прежним молодым друзьям Адамовичу и Георгию Иванову. Дальше по кругу — неистовый Бахтин, черноволосый, тонкий Терапиано, Фельзен, похожий на прибалтийского немца, Поплавский в черных очках и сам Мережковский, вдохновенно вещающий что-то об Атлантиде.