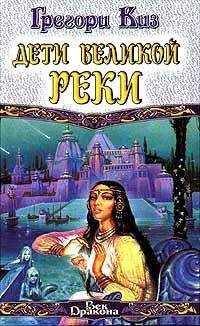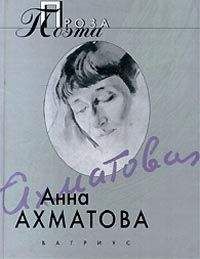Владимир Карцев - Ньютон
Он невысок, стремителен в движениях, Нездоровое бледное лицо усталого человека, покрытое ранними морщинами, одежда неряшлива. Во рту — неизменная трубка: заядлый курильщик всевозможного зелья.
Видимо, несмотря на свой столь нереспектабельный вид, этот человек пользуется у Ньютона тем не менее громадным уважением. Рядом с ним он становится ещё более молчаливым и жадно впитывает у Исаака Барроу, своего учителя — а это он, — его научные доктрины, его взгляды на философию, науку, его мысли о природе и боге, о короле и парламенте, его рассказы о путешествиях в дальних странах.
Барроу — известный эрудит, знаток древних языков, математик, физик и богослов, прекрасный рассказчик и один из самых знаменитых английских проповедников. Его литературный язык был образцом для многих поколений, а его поэмы — любимым чтением двора.
Сейчас он, закончив блестящее повествование о своём падении в альпийскую пропасть и счастливом спасении от пиратов, рассказывает Ньютону о Декарте. Декарт — это больное место Барроу, ибо, восхищаясь им, он многое у Декарта не принимал, склоняясь более к кембриджским неоплатоникам и, в частности, к Муру, с которым дружил. Вечный спор о душе и материи, который Декарт скорее решал в пользу материи, Барроу определённо решал в пользу духа.
— Я восхищаюсь Декартом, — говорил Барроу, помогая себе жестами, не в силах унять энергию своего внутреннего вечного двигателя, явно превышающую потребности его небольшого складного организма и заставляющую его непрерывно двигаться, ходить, размахивать руками. — Декарт мог математически охватить мир, мог формулировать прямо и недвусмысленно мировые законы. Но как мог Декарт, оставляя себе движение и материю, отказаться от духовного и нематериального? Что же, по мнению Декарта, бог — это какой-нибудь плотник или механик, который знает лишь законы материи и движения? Или он просто кукольник, дёргающий за верёвочки созданных им же марионеток? Мир Декарта лишён движущей пружины! А именно — души, некоей нематериальной сущности, управляющей движением материи.
Ньютон молчал. Вопрос был совсем не простым. А он не хотел бы выдвигать неподтверждённых гипотез.
— Возьмите магнетизм, — убеждал Барроу Ньютона, — разве можно механическими движениями объяснить страннейшее влечение железа к магниту? А притяжение пылинок к янтарю? Здесь нечто большее, чем просто механическое движение и материя. Здесь присутствует что-то более возвышенное — любовь, взаимное стремление. А говоря о живых организмах, разве можно свести их стремление друг к другу, к сближению и совокуплению чисто механическими причинами? Недаром Аристотель знал десятки видов движения — даже политические. Декарт хитёр, он считает, что каждое естественное тело — живые существа, овощи, минералы, камни и тому подобное — составлено из двух частей, которые, по его мнению, совершенно различны и им разделены. Людей он разделил на душу и тело — на нежную, чистую, но и сильную душу и чёрное, косное, нечистое и слабое тело. А разделить эти две сущности можно лишь огнём! Так что Декарт в некотором смысле сделал шаг назад по сравнению с герметическими философами. Они шли правильным путём, решая вопросы с помощью эксперимента. Декарт же ничего подобного не делает. Он совершенно крив в своей методологии.
— Почему же? — только и мог вставить Ньютон.
— А потому, — отвечал Барроу, — что Декарт изобрёл, как он считает, самый лучший способ рассуждения, а именно такой: не учиться у вещей, а налагать на вещи его собственные законы. Сначала он намечает в своей голове некоторые физические правила, которые кажутся ему подходящими из некоторых самых общих соображений, затем он позволяет себе снизойти до общих принципов природы и уж затем постепенно переходит к частностям, которые можно извлечь из принципов, которые он формирует, не консультируясь с природой…
Каждая такая беседа тревожила Ньютона, заставляла думать о самых сложных проблемах, существующих в мире, о Природе и боге, о Декарте, о Муре, о самом Исааке Барроу.
Исаак Барроу был истинным интеллектуальным отцом Ньютона. Он направлял молодого выпускника в науке, философии, в религии, привил свои взгляды на эксперимент, индукцию, математизирование в философии. Впоследствии он помогал ему быстро проходить последовательные ступени академической карьеры и получить профессорский пост. Кроме совершенно исключительного в кругу кембриджцев кругозора, он обладал ещё двумя редкими качествами: житейской мудростью и добротой. И ещё: он чрезвычайно высоко ставил своего ученика. Барроу не раз говорил, что в том, что касается математики, он по сравнению с Ньютоном смыслит не более ребёнка. Когда студенты задавали ему сложные вопросы, он сразу же отсылал их к Ньютону.
Барроу был всего на двенадцать лет старше Ньютона. С детства его отличала необычайная живость в движениях, непоседливость и физическая сила. Он причинял своим родителям и учителям столько беспокойства, что его отец в вечернем молитвенном экстазе не раз воссылал господу мольбу, что если уж угодно тому будет взять к себе раньше срока одного из его детей, то пусть это лучше будет Исаак. Барроу обучался в Тринити, где уже в 1649 году стал членом колледжа. Дальше его университетская карьера, казалось, пришла к концу: в 1655 году он вынужден был эмигрировать, ибо был роялистом и католиком. Так он попал во Францию, затем в Восточную Европу и Малую Азию. Путешествие было опасно и полно приключений, о которых можно было бы написать отдельный роман. С Реставрацией он смог вернуться в Англию, где королевским мандатом получил должность профессора греческого языка в Кембриджском университете, то есть занял ту самую кафедру, которую некогда занимал мудрец Эразм. Затем он некоторое время занимался геометрией в Оксфорде, где встретил будущих «виртуозов» — членов Королевского общества и попал в компанию истинных естествоиспытателей. Потом ему повезло ещё больше: выше уже упоминалось, что некий Лукас пожертвовал Кембриджскому университету деньги на создание математической кафедры его имени. Он был дерзок, Генри Лукас. Раньше создание кафедр было привилегией лишь королей. Но университетское начальство, давно не получавшее щедрых подарков, приняло предложение Лукаса.
Профессорское жалованье по лукасианской кафедре выплачивалось в размере ста фунтов годовых из доходов с земель в Бедфордшире. По своему рангу кафедра приравнивалась к главнейшей — кафедре богословия, а должность лукасианского профессора — к должности мастера большого колледжа.
Когда встал вопрос о подборе первого лукасианского профессора, Барроу широко воспользовался тем большим авторитетом, которым обладал в Тринити и Кембридже в целом. Он, по-видимому, имел большое влияние на адвоката Роберта Рауворта и университетского печатника Томаса Бука, которые согласно завещанию Лукаса были ответственны за назначение лукасианского профессора. Поэтому именно Барроу написал своей рукой те требования, которые к этой должности предъявлялись. Он составил их таким образом, что не могло возникнуть ни малейшего сомнения: для занятия должности подходил только один человек в мире — Исаак Барроу.