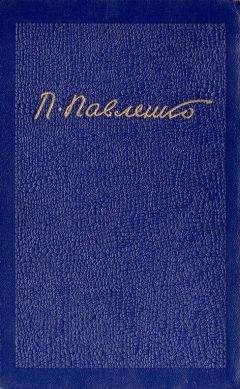Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
То, что комната для мыслимого свидания помещается Цветаевой прежде всего во сне, – достаточно естественно. Неоднократно в письмах и стихах она говорила о сне как о полноценной форме контакта между людьми. Например: <«…> Мой любимый вид общения – потусторонний: сон, видеть во сне <…»> в письме Пастернаку 19 ноября 1922 года. Или в самом начале поэмы «К морю»:
…Из своего сна
Прыгнула в твой.
Снюсь тебе. Четко?
Глядко? <…>
…(сон взаимный).
Видь, пока смотришь:
Не анонимный.
О том же – «Авось, увидимся во сне…» в одном из стихотворений цикла «Провода» в 1923 году[140].
С мотивом сна, вероятно, связаны и строки:
<…> Точно старец, ведомый дщерью,
Коридоры: <…>
Здесь, пожалуй, имеется в виду Эдип, который в 1920-х годах мог легко ассоциироваться с автором идеи «эдипова комплекса» и толкователем сновидений 3. Фрейдом.
Встреча как встреча во сне, быть может, потому так часто и возникает в поэтическом и эпистолярном диалоге Цветаевой и Пастернака, что их физическая реальная встреча во времени и пространстве не только трудноосуществима – он в России, она – в эмиграции, но для обоих, видимо, понятно, что, осуществись она, – неясно, куда девать всю ту взаимную экзальтацию, которая с 1922 года наполняет их переписку. У обоих – семьи, дети и прочее. В письмах то и дело возникает вопрос: «Что мы будем делать, когда встретимся?» След этого вопроса остался даже в части письма к Рильке от 3 июня 1926 года, предваряющей саму поэму: «…Слова из моего письма Борису Пастернаку: „Когда я неоднократно тебя спрашивала, что мы будем с тобою делать в жизни, ты однажды ответил: „Мы поедем к Рильке““».
В то же время одной из регулярных существенных тем переписки Пастернака и Цветаевой становится поиск точек взаимного соприкосновения. За обсуждением общих знакомых – И. Эренбурга, Э. Триоле, Е. Ланна и др., литературных пристрастий, взглядов на жизнь и искусство, впечатлений детства – стоит, если можно так выразиться, поиск «духовного» пространства для встречи. Поскольку встреча в реальных пространстве и времени представляется малоосуществимой, корреспонденты создают пространство мнимое, мыслимое, литературное. К таким мнимым пространствам относится и прошлое – вспомним тщательное описание в их переписке всех обстоятельств четырех случайных московских встреч 1918–1922 годов, когда поэты практически не были знакомы. К подобным «духовным» пространствам можно отнести и совместную экзальтированную привязанность к Р. М. Рильке. Естественно, на роль такого пространства претендует и посмертное существование:
Дай мне руку на весь тот свет
Здесь мои обе заняты…
Общность впечатлений московского детства 1890–1900-х годов создает важнейшую часть этого мыслимого пространства. Так, в уже цитировавшемся письме от 20 апреля 1926 года Пастернака читаем о его впечатлении от автобиографической анкеты Цветаевой, из которой он узнает о сходстве музыкальных занятий их матерей и делает вывод о сходстве атмосферы, в которой их детство протекало: «<…> Вчера я прочел в твоей анкете о матери. Все это удивительно! <…> Утром, проснувшись, думал об анкете, о твоем детстве и с совершенно мокрым лицом напевал их, балладу за балладой, и ноктюрны, все, в чем ты выварилась и я <…>»
В письме 23 мая 1926 года Цветаева пишет ему: «<…> Почему меня тянет в твое детство, почему меня тянет – тянуть тебя в свое? (Детство – место, где все осталось так и там)».
Неудивительно, что место для мыслимой встречи в поэме «Попытка комнаты» может приобретать черты сходства с этими духовными пространствами для «встреч», и естественно, что одним из первых «вариантов» конструируемой комнаты должна оказываться комната из цветаевского детства. Этим мы можем объяснить неоднократное появление в поэме «детского» мотива:
…Детских ног в дождеватом пруфе
Рифмы милые: грифель – туфель —
Кафель…
Отметим, что упоминание «рифм» можно прочитать как намек на метафорическую «рифмовку» детских впечатлений Пастернака и Цветаевой.
…Как река для ребенка – галька,
Доля – долька, не даль – а далька.
В детской памяти струнной…
Не забудем, что центральной «рифмой» детства обоих поэтов были музыкальные занятия – собственные и материнские, на это, кроме «струнности», могут указывать и «доли» музыкальные. К детско-музыкальному ряду можно отнести и
…На рояли играл? Сквозит.
Дует. Парусом ходит. Ватой
Пальцы. Лист сонатинный взвит.
(Не забудь, что тебе девятый.)
Сравним со строками стихотворения из книги Пастернака «Темы и варьяции» (1923): «Так начинают года в два, от мамки рвутся в тьму мелодий…»
Всплывает «детский» мотив и в строках:
…Даль с ручным багажом, даль – с бонной…
…Так же, как деток – аисты <…>
С детскими впечатлениями можно связать и еще один мотив поэмы – пушкинский. В автобиографическом очерке «Мой Пушкин» (1937) Цветаева описывает Пушкина как главный стержень детских воспоминаний, и первое из них – висящая на стене в материнской комнате картина, изображающая последнюю дуэль Пушкина: «…Была картина в спальне матери – “Дуэль”. Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной (выделено нами. – К.П.) отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес <…> Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз» (т. 5, с. 57).
Не содержится ли в последней фразе объяснение появления среди процитированных строк, в которых мы искали «детский» лейтмотив, мотива Франции в строках:
…Кафель… в павлиноватом шлейфе,
Где-то башня, зовется Эйфель.
Как река для ребенка…
С «комнатой» же московского детства при сопоставлении с «Моим Пушкиным» можно связывать и строки:
…Вырастешь как Данзас —
Сзади.
Ибо Данзасом – та,
Званым, избранным, с часом, с весом,
(Знаю имя: стена хребта!)
Входит в комнату – не Дантесом…
Помимо фразы, что Дантес в «Моем Пушкине» «отходит спиной», с мотивом «стены спины / стены хребта» может связываться и еще один фрагмент очерка, где Цветаевой описано детское гуляние на Тверском бульваре к памятнику Пушкина: «…Мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему по песчаной или снежной аллее возвращаться, – к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него – спиной и к нему спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же, как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину…» (т. 5, с. 61).