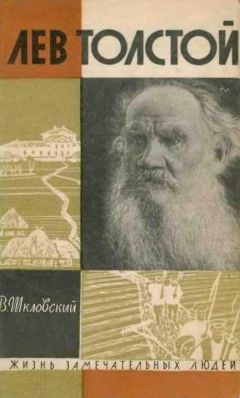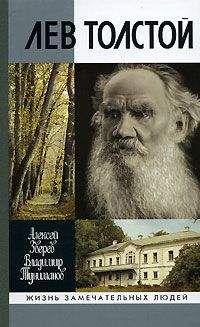Михаил Новиков - Из пережитого
Мое замечание их так обозлило, что они еще злобнее стали говорить на эти темы, заранее давая друг другу слово запороть своих жен насмерть в случае их неверности. Темный и грубый народ! За две недели пути с ними я только и слышал от них рассказы о пьянстве, чужих бабах и воровстве. Ни о чем другом они не умели говорить, будучи в тоже время твердо убеждены, что от своих грехов они могут очиститься в любое время, сходивши к попу «на дух».
За это время трое верховых два раза отъезжали с дороги в сторону и привозили по барану, воруя их у киргизов, тут же на дороге их резали, снимали шкуру и жарили на остановках. Один раз они были замечены, и следом за ними прискакали четыре конных киргиза и стали с бранью отнимать у них зарезанного барана. Один из них кричал, что он судья и знает, кому на них жаловаться. Старший приказал своим подчиненным взять ружья на изготовку, снял фуражку и, крестясь, сказал: «Вот вам крест, что ухлопаю всех на месте, если вы не уедете в степь». Киргизы перепугались и молча отъехали. Они очень верят русской божбе, и их на этом здесь обманывают все, кому не лень.
Когда приходилось нам утрами проезжать мимо киргизских становищ, еще издали было видно около каждой юрты: как истуканы, не шелохнясь, сидели женщины, покрытые белыми покрывалами и творили намаз. Казаки смеялись над ними, озорновали, но они не шевелились и продолжали шептать молитвы.
На одной ночевке, в версте от дороги, всю ночь у киргизов праздновалась свадьба и пелись на непонятном нам языке киргизские песни. Но мотивы были такие хорошие, что при звездном небе и бесконечной степи казалось, что мы слышим какое-то ангельское пение. Казаки мои были тоже в восторге и, не утерпев, сели на лошадей и поехали на свадьбу. Вернувшись через час, они были навеселе и с удовольствием рассказывали оставшемуся около меня часовому, как их там приняли и угостили. Вообще, если бы не было на свете водки, не было бы и казака.
Местами нам попадались зимние землянки киргизов, вырытые в буграх, по берегам высохших ручьев и небольших возвышений: 4–5–10, не больше. В них они спасаются от зимних холодов, в то время как скот стоит прямо в загонах, без всякой защиты от ветра и морозов.
Хорошо в такой пустыне! Лежишь ночью с открытыми глазами, над тобою бездонное небо с яркими звездами, кругом широкая степь. Где-то далеко крякают дикие утки, гуси; заревет диким голосом верблюд, и опять безмолвная тишина, и опять глубоко-глубоко уходишь в самого себя и сливаешься воедино с этим бесконечным и таинственным миром. Здесь нет никакого шуму и суеты; нет бешеной погони за наживой, нет торопливой беготни по службам и магазинам, нет ничего искусственного, что так усложняет и загромождает жизнь человека в городе. Здесь человек — подлинный сын природы, которой он живет и от которой только и зависит.
К вечеру тринадцатого дня мы наконец пришли в форт Карабутак, место моего нового чистилища и испытаний.
Глава 23
В форте Карабутак
Маленькая, почти игрушечная крепость Карабутак стояла на старой караванной дороге, ведущей с Оренбурга на Ташкент. Построена она была во время присоединения Туркестанского края для поддержания спокойствия и повиновения в бродячем киргизском населении и теперь оставалась уже простым этапно-опорным пунктом для проходящих время от времени военных команд и казенного имущества. На двух ее углах с маленькими башенками, выложенными из дикого камня, стояли даже две старые пушки, обращенные в сторону пологой степи, далеко-далеко видимой с высокого берега ручья того же названия, на высоком берегу которого она и была слеплена. Были ли когда в употреблении эти пушки — никто мне об этом сказать не мог. Показывали только небольшой курган в степи, в версте от фронта, где, как говорили, был зарыт русский офицер, убитый когда-то киргизами.
В самой крепости было небольшое здание для постоянного караула, охранявшего денежный ящик, который, в свою очередь, стоял под небольшим навесом, где и укрывался от сырости и холода часовой. За стеной крепости была большая одноэтажная казарма, в которой и располагалась рота солдат. Дальше была казенная церковь, лазарет, провиантский склад, канцелярия и квартира коменданта, а в четверть версте — поселок из двенадцати маленьких домиков-мазанок, в которых помещались почта и кое-кто из русских, кормившихся и около солдат, и около киргизов, которые сюда привозили для продажи кумыс, просо, баранов и вязанки для топлива крупного тростника с озер или мелкого колючего хвороста, называемого «чилигой». Была здесь даже торговая лавочка купца Чернова, сосланного сюда из Петербурга за какие-то проделки. Впрочем, здесь и все начальство, состоявшее из попа, доктора, коменданта и его помощника, все также было из высланных: кто за пьянство и картежную игру, кто за распутство и неблагонадежность. Делать им здесь было нечего, и от скуки и безделья они усердно пили и играли, чередуясь между собою. Кроме них и купца Чернова, шестым был почтмейстер, а потому шесть дней в неделю каждый вечер проводился ими по старой среди, и только седьмой день оставался для вытрезвления, в который полагалось пить дома.
Когда меня привели в канцелярию, было 5 часов, а потому капитан Лангут был уже в градусах (с большим красным носом) и, сознавая свою слабость, встретил меня довольно добродушно, сразу признался, что здесь все они ссыльные, а потому я должен вести себя тихо и смирно, без всяких художеств.
— Отсюда до Бога высоко, а до царя далеко, а потому мы здесь имеем всю полноту власти! Мы с тобой еще поговорим! — сказал он, сдавая меня на руки фельдфебелю Тугбаеву, которому дал короткое наставление — глядеть за мной в оба и без присмотра не выпускать меня из казармы.
— Он нам прислан по царскому повелению под строгий надзор, — внушительно сказал он Тугбаеву, — и мы за него будем в ответе.
Солдаты приняли меня очень подозрительно и с большим любопытством меня рассматривали и следили за мной, желая скорее разгадать и найти во мне что-то особенное, что непременно, по их представлению, должно было быть, иначе, думали они, зачем бы так далеко от Москвы пригонять сюда обыкновенного человека? Все они были пермяки и вотяки, народ простой и малограмотный, а потому и очень любопытный, тем более в их одно образную жизнь я входил какой-то новинкой, да еще секретной. Был конец сентября 1896 г. На солдатском огороде копали картошку, свеклу, лук, а потому никакого ученья и занятий не было, и я недели две ходил туда и сюда, под присмотром дневального, знакомясь с местностью. А когда начались занятия, я садился с ними и незаметно переводил разговор на что-нибудь другое, боле интересное, рассказывал им, что сам знал из астрономии, геологии, природоведения, о других странах и людях и т. п. И как-то выходило так, что солдаты забывали свою «словесность», время проходило и они расходились. И хотя на первое время фельдфебель и выражал опасения, что таким отношением к службе мы нарушаем устав, но я им пояснил, что нам прежде всего нужно не мучить себя уставами, а жить так, как нам удобнее, интереснее и с большей пользой, а по уставу поступать только для виду, на глазах начальства, только чтобы не попасть под ответственность. Всем это понравилось, и мы стали жить больше по-людски, чем по-солдатски. Тоже потом вышло и вообще со всей службой. Я рассказал им, что в этой службе нет ничего хорошего и полезного для жизни и что она направлена только к тому, чтобы из человека сделать послушного болвана, не умеющего рассуждать, а потому мы должны относиться к ней так себе, слегка, не вкладал своей души и не забывая своего человеческого достоинства. Никто из этой службы не строил себе карьеры, и потому такое рассуждение всем пришлось по душе, в том числе и взводным и фельдфебелю, и за глазами начальства все старались не тяготить себя ею. А начальство пило горькую и тоже старалось не мешать солдатам. Кроме караула у денежного ящика, здесь еще были два ночные поста, один у церкви, а другой у провиантского склада. И в дождь, и в зимнюю стужу солдаты сменялись меж собой, мерзли и мучили себя хождением кругом этих строений, не смея сесть и подремать, я их убедил, чтоб и здесь не мучили сами себя.