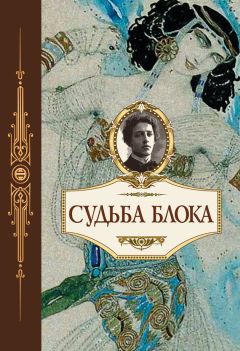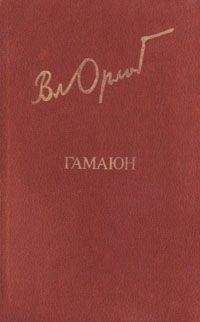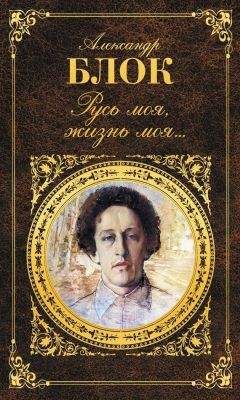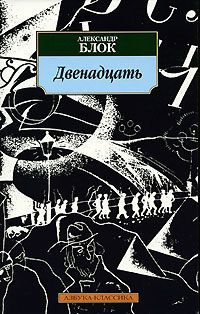Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам - Немеровская О.
М. А. Бекетова
У себя дома он, вместо обычного черного сюртука, в котором его привыкли видеть всегда, носит изящную суконную блузу без пояса с белым кружевным воротником.
Он напоминает в этом виде английских художников школы прерафаэлитов.
О. Норвежский
И обличье у него было барское: чинный, истовый, немного надменный. Даже в последние годы – без воротника и в картузе – он казался переодетым патрицием. Произношение слов у него было тоже дворянское, – слишком изящное, книжное, причем слова, которые обрусели недавно, он произносил на иностранный манер: не мебель, но мэбль (meuble), не тротуар, но trottoir (последние две гласные сливал он в одну). Слово крокодил произносил он тоже как иностранное слово, строго сохраняя два о. Теперь уж так никто не говорит. Однажды я сказал ему, что в знаменитом стихотворении «Пора смириться, сэр» слово сэр написано неверно, что нельзя рифмовать это слово со словом ковёр. Он ответил после долгого молчания:
– Вы правы, но для меня это слово звучало тургеневским звуком, вот как бы мой дед произнес его – с французским оттенком – по старо-дворянски.
К. Чуковский
Я хочу, чтобы ты всегда определенно знала, что я ни на минуту не перестаю тебя любить по-настоящему. Также, не знаю, по-настоящему ли, но наверно, я люблю Францика [73] и тетю. Относительно Любы я наверно знаю, что она тебя любит, она об этом говорит мне иногда просто. Я хочу, чтобы эти простые истины всегда сохранились и подразумевались, иначе – наружное будет мешать.
Кроме того, я теперь окончательно чувствую, что, когда начинаются родственники всех остальных калибров, а также всякие знакомые, и офицеры вообще, – то моя душа всех их выбрасывает из себя органически, без всяких либеральных настроений. Для меня
это внутренняя азбука, так что даже когда я любезен с ними, то потом тошнит, если у души оказывается на это свободное время. Это – мой хам, т. е. не во мне, а в них – для меня. Никого из них я ни за что «не приму»; тем самым, что они родственники, они стали для меня нулем, навсегда выброшены. Они не могут ничем заслужить человеческое достоинство в моих глазах не потому, что тут какие-нибудь теории, а по какому-то инстинкту проклятия. Все они не только не могут, но и не смеют знать, кто я.
Письмо к матери 1 /Х-1906

К. Сомов. Портрет Ал. Блока. 1907 г.
Чересчур снисходительным назвать его было нельзя. Помню еще в 1907 году совместное выступление поэтов летом в Териоках. В числе участвовавших был некто Р. Блок отозвал нас остальных в сторону и предупредил, чтобы мы были осторожны и не компрометировались якшанием с этим Р., которое тот несомненно будет нам навязывать.
– Он, – сказал Блок, – таскает из карманов носовые платки. Вы понимаете?
«Чужие жены» составляли главный предмет этого Р. Отношение Блока к этому вопросу было чисто британским.
Вл. Пяст
В числе немногих, посещал Блок в то время милого и гостеприимного, благодушного не без лукавства А. А. Кондратьева [74]. Вечера, на которые хозяин собирал гостей, не стесняясь различием школ и вкусов, проходили шумно и не без обильных излияний. А. А. не отстранялся от участия в общем весельи. Помню вечер, затянувшийся до утра, когда выпито было все, что нашлось в доме, вплоть до только что заготовленной впрок наливки. Среди гостей, расположившихся в вольных позах на диване и по коврам, благодушно и доброжелательно улыбающийся А. А., уже прочитавший множество стихов и слушающий не вполне членораздельные вдохновения присутствующих. Кто-то в порыве одушевления предложил, за невозможностью продолжать веселье у хозяина или где-либо в ресторане, посетить «приют любви». Мысль встретила решительное сочувствие: взоры некоторых обратились на А. А. Не желая, по-видимому, выделяться, он просто и скромно согласился принять участие, но выразил надежду, что предполагаемая поездка «ни к чему не обязывает» каждого участника в отдельности. Через несколько минут, впрочем, предложение было забыто.
В. А. Зоргенфрей [75]. А. А. Блок
Мне жить нестерпимо трудно. Особенно тосковал я перед новым годом и в праздничные дни. Такое холодное одиночество – шляешься по кабакам и пьешь. Правда, пью только редкими периодами, а все остальное время – холоден и трезв, злюсь и оскаливаюсь направо и налево – печатно и устно.
Чем холоднее и злее эта неудающаяся «личная жизнь» (но ведь она никому не удается теперь), тем глубже и шире мои идейные планы и намерения.
Письмо к матери 8/1-1908 г.
Какая-то огромная и пустая квартира, и в моей комнате от постоянных посторонних лиц – что-то официально холодное. Да и печки не особенно топятся.
Письмо к матери 8/1-1908 г.
Отчего же не напиться иногда, когда жизнь так сложилась: бывают минуты приближения трагического и страшного, ветер в душе еще свежий; а бывает – «легкая, такая легкая жизнь» (Сологуб).
Может быть, ты и не сможешь этого понять, – но неужели ты не можешь согласовать это со мной? Ведь путь мой прям, как все русские пути, и, если идти от одного кабака до другого зигзагами, то все же идешь все по тому же неизвестному еще, но, как стрела, прямому шоссейному пути – куда? И куда? И потом —
Письмо к матери 28/IV-1908 г.
Он пережил личную трагедию, его душа была мрачна, он все более уединялся от людей, он говорил обычно мало. На его прекрасном лице легли следы бессонных ночей. Телефон в его квартире работал только четверть часа в сутки. Он без пощады жег себя на огне страстей и тоски.
А. Н. Толстой
Моя жизнь катится своим чередом, мимо порочных и забавных сновидений, грузными волнами. Я работаю, брожу, думаю. Надоело жить одному.
Письмо к матери 28/TV-1908 г.
Ты права, мама: не пить, конечно, лучше. Но иногда находит такая тоска, что от нее пьешь.
Письмо к матери 20/1-1908 г.
Вот – пустынные помещения ресторана; и вот мы у стойки; пьет много он; в жесте его опрокидывать рюмочку обнаруживается «привычка», какой прежде не было; я смотрю на него, на мешки под глазами и вспоминаю о слухах (как много он пьет).
А. Белый
Пью много, живу скверно. Тоскливо, тревожно, не по-людски
Письмо к матери 25/1-1907 г.
– А Христа я никогда не знал.
Это было сказано совершенно неожиданно, без всякого подготовления; о Христе во всем предыдущем разговоре не было произнесено ни слова. И когда я, не удивившись совершенно такому переходу, признался со своей стороны, что тоже не ощущал Христа, – только разве один раз, и то поверхностно, в один благоуханный летний вечер, на поляне у всходов к «горе Пик», – Блок продолжал:
– Ну, и я, может быть, только раз. И тоже, кажется, очень поверхностно. Чуть-чуть… Ни Христа, ни Антихриста.
Вл. Пяст
Все опостылело, смертная тоска. К этому еще жара неперестающая, днем обливаюсь потом. Пью мало, с Чулковым вижусь реже. Написал несколько хороших стихотворений. Ужасное одиночество и безнадежность; вероятно, и эта полоса пройдет, как все.