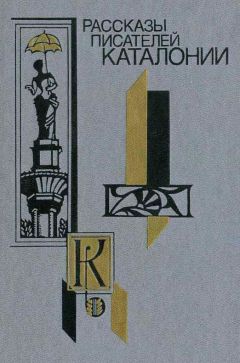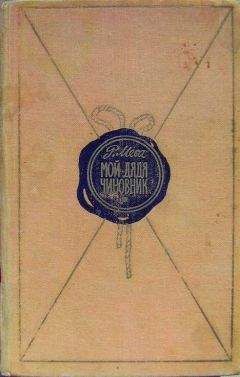Рамон Фолк-и-Камараза - Зеркальная комната
Признаюсь без ложной скромности — я побивал все рекорды: превращался в камень, в памятник терпению, буквально прирастал к скамье. Однажды я провел так три часа — настоящий подвиг для шестилетнего малыша, — а падре Бартомеу пришлось немного встряхнуть меня, чтобы привести в чувство. Это был экстаз, нирвана, еще немного — и я впал бы в левитацию.
Тот, кто выдерживал больше других, получал так называемые «очки», а когда их набиралось много, он мог выбрать «награду» из вещей, запертых в стеклянном шкафу. Я почти опустошил этот шкаф и если не забрал оттуда все, то лишь потому, что был не слишком требователен. «Награды» состояли в основном из статуэток святых и некоторых книг, естественно, религиозного содержания. Однако я ни разу не потребовал книгу за «очки», заработанные в поте лица (а также другого, менее благородного места). Книги отца стояли на полках у нас дома, а приобретать книги других авторов казалось мне кощунством, почти предательством. Это значило помешать отцу и сыграть на руку его соперникам. Зато изображения святых приводили меня в восторг, я прямо-таки завалил ими свою комнату — и еще много лет, до тех пор, пока мы не переехали из Барселоны, натыкался на ярко-красную картонную «Тайную вечерю», которую обожал в детстве. Набрав восемьсот «очков», я стал счастливым обладателем полуметровой гипсовой Девы Марии — копии со статуи Мурильо, — выкрашенной в черный цвет (наверное, с помощью гуталина), что придавало ей особую ценность. Я истратил на Деву Марию все заработанные «очки», но не раскаивался в этом. Гипсовая статуя, стоявшая на угловой подставке, специально сделанной отцом, жила у меня в комнате много лет, была моей спутницей в самое трудное время, и сейчас, читая «Аве, Мария», я вижу именно это изображение Богоматери.
Из игрушек я больше всего любил «алтарь». Он был совсем как настоящий, со всеми необходимыми принадлежностями: маленькими книжечками Евангелий и Посланий апостолов, чашей, дарохранительницей, сосудом для вина, аналоем, дискосом и требником. А в специальном ящике хранилось белое облачение священника, пояс, епитрахиль и тканная золотом риза — как сейчас помню, ярко-зеленая, цвета свежего салата, — в общем, полный комплект снаряжения, словно у астронавтов из научно-фантастического романа (пистолет, радиоуловитель, скафандр и ботинки на свинцовой подошве), только для духовного лица.
Алтарь принадлежал Микелу, и мы оба с удовольствием играли в священников. Микел служил мессу по всем правилам, добавляя к каталонским словам латинские окончания, и я умирал со смеху, слушая его. Правда, брат очень хорошо смотрелся в роли служителя Господа: толстый, с круглым лицом плута и проныры — ни дать ни взять деревенский священник.
Я в той же роли являл собой жалкое зрелище — риза постоянно соскальзывала с моих худеньких плеч, волочилась по полу. Зато у меня было лицо постившегося много дней схимника, умиротворенное и печальное, так что месса выглядела совсем по-иному. И вообще я относился к этой игре более чем серьезно.
Моя способность впадать в транс и просиживать часами без движения, любовь к изображениям святых и бледное, словно у ребенка в гробу, лицо, естественно, привлекли ко мне внимание нашего священника. Однажды мама зашла за мной в школу, чтобы отвести к портному Родо́, который шил мне костюмчик. Перед тем как выйти, она взяла меня за руку, подвела к падре Бартомеу и спросила, хорошо ли я себя веду. Падре Бартомеу (вскоре, в тридцать шестом, его убили) ответил: «Сеньора, этот ребенок будет епископом или святым».
Только много лет спустя я понял, как сильно ошибался падре. Ну где вы найдете женатого епископа, да еще с шестью детьми? Стать святым, конечно, никогда не поздно, но для этого многое должно измениться во мне и в католической церкви, да и должность служащего, пусть образцового, вряд ли послужит хорошей рекомендацией.
И еще одна мысль приходит в голову: произнося свое пророчество, которое, очевидно, уже не сбудется, падре сделал одну грамматическую ошибку и потому поставил меня перед выбором. А может, как и многие священнослужители, он был в душе вольтерьянцем? Иначе почему он сказал: «…Ребенок будет епископом или святым», ни на минуту не допуская, что можно стать тем и другим одновременно?
Вместо того чтобы сидеть в кресле у камина, я вот уже целый час занимаюсь бог знает чем. К тому же пришлось выйти из дома поздно вечером, а добраться обратно не так-то просто.
Час назад я решил позвонить в Женеву и поздравить Марию, но, сняв трубку, вместо привычного голоса радиостанции услышал странный звук, напоминавший соло ярмарочной трубы и совершенно не походивший на телефонный сигнал. Добрые четверть часа я безуспешно нажимал на рычаг и крутил диск. Никакого результата. Чтобы поговорить с Женевой, придется кричать во все горло (шутка сказать — восемьсот километров!) или искать другой аппарат. Я решил притвориться, забыть о дне рождения и перенести звонок на завтра, но вдруг почувствовал странную тоску. Одиночество — прекрасная вещь, но всему есть предел. А если дома что-нибудь случилось? А если они не могут сюда дозвониться и думают, что ночью, пока я спал, вспыхнул пожар? А если…?
Мне было страшно лень выходить в темноту, на грязную, полную луж дорогу, но я вооружился терпением и ручным фонарем и через двадцать минут уже стоял у калитки Кан-Коралет-Вель. В кухне на первом этаже горел свет. Навстречу с лаем выбежала собака, но, услышав от меня: «Свои», — почему-то сразу поверила и завиляла хвостом (вот они, «естественные» чудеса!).
Я постучал и, услышав: «Входите», — открыл дверь. На кухне у камина — его здесь называют «земляной очаг» — сидел старик, он поздоровался и разрешил мне позвонить. Я набрал номер и сразу услышал в трубке голос Марии: все в порядке, в Женеве дождь (только ли там?), на этой неделе в университете экзамены, а в воскресенье она едет в горы. Потом подошла Адела, такая, как всегда, и я вдруг почувствовал, что она улыбается, говоря со мной, сердце у меня радостно забилось, совсем как тридцать два года назад, когда мы только собирались пожениться и звонили друг другу каждый час. Я предупредил: мой телефон не работает, а вообще-то все хорошо, и мы попрощались. Телефонистка сразу же грозно предупредила, что переговоры стоят четыреста пятнадцать песет, я оставил эту сумму на столе, позвонил на станцию и попросил прислать мастера исправить аппарат, а потом сердечно поблагодарил старика. Он пригласил меня присесть к столу. Оказывается, его домашние отправились в кино на машине: «Купили телевизор и каждый день в кино ездят, а я включил его разок, телевизор этот, — ерунда какая-то, и все по-испански…»