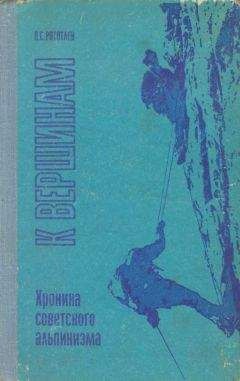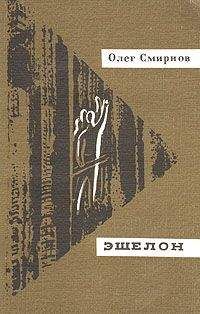Олег Смирнов - Эшелон (Дилогия - 1)
На воле было прохладно и сыро, может, поэтому меня одолевал озноб. Расстегнув кобуру пистолета, я приказал бойцам залечь в канаве неподалеку от эшелона. То же делали бойцы из остальных теплушек. Оставив за себя Колбаковского, я побежал к штабному вагону. Стрельба прекратилась, крики стали реже. Прочертила кровавый след и погасла сигнальная ракета. Кто кому дает сигнал, что вообще стряслось? И где мы - в Германии или в Литве?
У штабного вагона, где собрались командиры подразделений, выяснилось: бандиты разобрали рельсы, машинист вовремя затормозил, остановив состав метров за пятьдесят, - и тут мы были обстреляны из лесу. Ответным огнем часовых на тормозных площадках бандиты были рассеяны, потерь у нас нет, путь будет отремонтирован. Комбат приказал объявить отбой тревоги.
Но мы еще проканителились часа полтора, прежде чем поехали.
И часа полтора обсуждали происшествие. Поскольку мы уже пересекали литовскую территорию, сошлись на том, что эшелон обстрелян "лесными братьями", местными националистами. Нашлись такие, кто был здесь недавно, и подтвердили: националисты бандитствуют, нападают на партийных и советских работников, на небольшие группы наших солдат, по ночам устраивают диверсии на дорогах. Толя Кулагин рассказал, что и в Западной Украине националисты не утихомирились: гитлеровцы драпанули, а бандеровцы остались, лютовали, Советской Армии приходилось сражаться с ними, головорезами.
- А все одно им будет капут, - сказал Головастиков. - Как их хозяевам...
На том и порешили и отошли ко сну - споро, как по команде.
После происшествия и я уснул, как в омут канул. Хотя сновидения не оставили меня в покое.
10
Я проснулся с сознанием: стоим. В раскрытую настежь дверь врывались солнце, ветер, голоса. В теплушке никого не было. Один я валялся, засоня. Сунул ноги в бриджи, в сапоги - и вниз в маечке, с всклокоченной шевелюрой. Спрыгнул на гравий, и сразу же, словно мгновенные токи матушки-земли, вошла в меня радость, от ступней хлынула в голову. У вагона простодушно, ласково улыбался дневальный:
- Доброе утро, товарищ лейтенант.
- Утро доброе, - ответил я, улыбаясь.
Поигрывая голыми плечами, баловался зарядкой, поглядывал.
Было раннее утро, солнышко алело над головным вагоном - паровоз отцеплен, меняется поездная бригада, - трава, ветки, рельсы в росе; на станции несколько эшелонов - и нашего полка, и чужие; мои ребята плескались у водогрейки и у теплушки: оголенные по пояс, одни поливали другим из котелка, те намыливались, фыркали, требовали: лей, не жалей! Подскочил Драчев - с полотенцем, мыльницей, зубной щеткой:
- Товарищ лейтенант, дозвольте туалет?
- Дозволяю, Миша.
Драчев расплылся: Мишей я его кличу не часто. А мне хотелось сказать ординарцу еще что-нибудь доброе, приветное. Не нашелся, проговорил:
- Побриться бы, Миша.
- Организуем, товарищ лейтенант!
- Как спалось?
- Лучше всех, товарищ лейтенант! Солдатский сон сладкий.
Ровно бабонька в соку.
В последнее время Драчев стал заливать о женщинах - назойливо, игриво, мне это не нравится, но я ему ничего не говорю.
- А вы как спочивали?
- На четыре с плюсом, - ответил я, понимая, что и настроение потому отличное, что выспался, голова ясная и легкая, что мои мышцы бугрятся, что мне всего-навсего двадцать три, что я на польской земле и на меня посматривают польские красавицы.
Да, все-таки свернули на Польшу. Их было вдоволь, полячек, - на пристанционном базарчике, подле теплушек и платформ. В сарафанах и ситцевых платьицах, с лентами в волосах, большеглазые, голосистые, прыткие, они продавали и выменивали съестное на трофейные вещи, а то и просто любезничали с солдатами, иногда рискованно. Русская и польская речь, восклицания, смех, визг.
Нет, что ни говори, паненки народ отчаянный. Они поглядывают на меня, я - на них. Однако в разговор не вступаю. Зато мои солдатики упиваются. Драчев и тот ухитряется, поливая мне на руки, задевать проходящих полек.
- Драчев, пожалуйста, лей как следует.
- Виноват, товарищ лейтенант!.. Ух ты, лапушка, кохана, поедем с нами! Боишься, рыбочка? А ты не боись, не съедим...
Он льет мимо моих рук. Но я молчу, только вздыхаю притворно. Да улыбаюсь - сам себе. Паненки - прелесть, и солдатиков не удержать. Ну и пусть порезвятся - до удара станционного колокола, до паровозного свистка. У меня безоблачно на душе, радостно, и я не сомневаюсь: сегодняшний мой день будет состоять из удач.
Ефрейтор Свиридов, собрав толпу, рвет мехи аккордеона, безбожно фальшивит и не конфузится, бойко наигрывает про знойную Аргентину. Спасибо, хоть не поет. Но я ошибся. Кончив про Аргентину, Свиридов заводит новое танго, которое мы не слыхивали:
Мой милый друг, к чему все объясненья?
Ведь понял я: не любишь больше, нет...
Полячки окружают великого исполнителя, благодарные, растроганные, размагниченные, он купается в этих чувствах, от удовольствия жмурится. Мне смешно, однако я не подаю вида. Артисту нужны слушатели, а слушателям артист. Пускай он ублажит польских красавиц, не одним нам наслаждаться!
Замечаю, что полячка - девчушка, лет шестнадцать, застиранная кофта и юбка из немецкой плащ-палатки, - рассматривает не мое лицо, а грудь. Прослеживаю за ее взглядом и непроизвольно прикрываю розовато-синий шрам. Смущаюсь? Долбануло осколком здорово, ключицу перебило, боевая рана гордиться нужно, не смущаться. И я отвожу ладонь.
Это мое первое ранение, бой - седьмой по счету. В июле сорок первого. Немного восточнее Лиды. А первый бой был ненамного западнее Лиды, когда "мессеры" разбомбили эшелон и танки с белыми крестами на черных бортах выползли из лесу. Я подло, первобытно трусил. Тапки прошли дальше, большаком, а к нам, приминая стебли пшеницы, побежали автоматчики, батальонный комиссар взмахнул наганом: "За мной, врукопашную!" Я увидел немцев и со страху кинулся на ближайшего, ударил его штыком - из трех человек винтовкой владел в тот момент я. В этом рукопашном бою и сгинул мой дремучий, мохнатый страх. Потом если и боялся, то уже не так. Разумиете, пани?
Я улыбнулся, побрился, обтерся смоченной в одеколоне ваткой.
Надел гимнастерку с орденами и медалями, фуражку - не пилотку! Любуйтесь, пани! Но полюбоваться досыта моими наградами милые полячки не смогли - подцепленный паровоз загудел к отправлению, зашипели тормоза. Старшина Колбаковский еле управился затащить в теплушку термосы с завтраком. Солдаты поспешно лезли на лесенку. Последним, козырнув женщинам молодецки, на ходу сел я. Полячки махали нам платками, поляки - шляпами, мы им пилотргами, а комсостав, как я, - фуражками.
Не зря я таскал в вещмешке по боям да госпиталям фуражечку с лакированным козыречком. Сгодилась, разлюбезная.