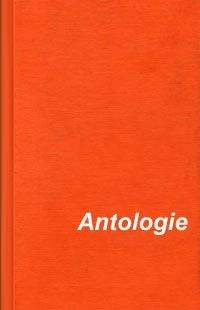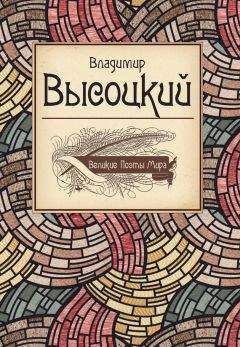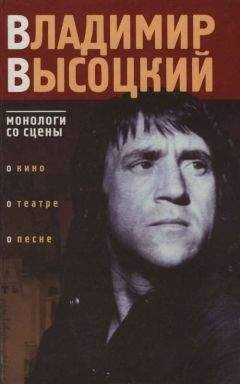Владимир Соловьев - Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых
Вполне возможно, что когда-нибудь в будущем жанровая тяга малых форм к интеграции сменится тягой к разрыву, к распаду, роман снова станет циклом, и от циклов останутся лучшие рассказы, которых у Фазиля Искандера наберется десятка два как минимум. И они несомненно войдут в состав классической русской литературы.
Фазиль Искандер — один из писателей эпохи застоя. Мне вообще кажется, что в брежневское время в Советском Союзе были написаны прекрасные книги. Это время оказалось для литературы более плодотворным, чем предшествующее хрущевское и последующие — горбачевское, ельцинское, путинское. Зерно было брошено в землю в «оттепель», при Хрущеве, а взошло при Брежневе, в самое, казалось, неподходящее для литературы время. Нет, нет, я далек от желания снова увидеть на русской литературе цензурный намордник.
Меньше других — на Фазиле Искандере.
При том, как читателю известно, я не отношусь апологетически ко всем шестидесятникам скопом и полагаю, что большинство из них задержалось на исторической сцене: покойники, которые ни за что не хотят улечься в заждавшиеся могилы. Фазиль Искандер — явление индивидуальное и уникальное, для которого приписка в паспорте не значит ничего. Либо ему удалось вырваться из плена 60-х, порождением которых он, несомненно, является. Один московский критик назвал Эрнста Неизвестного худшим из евтушенок. На этой шкале Фазиль Искандер — лучший из евтушенок. А может, он и вовсе не евтушенко?
Посвящение-2. Искандеру, Войновичу, Чухонцеву, Икрамову: сердца четырех
Эскиз романа
Закрыв глаза, я выпил первым яд…
Я вовсе не уверен, что мне удастся этот сказ, но и другого выхода, как сесть за него, у меня нет, так как лучший из нас рассказчик умер этой весной в Париже, а два других члена нашей ложи слишком пристрастны, чтобы рассказать о том, что нас разбросало в разные стороны, а ведь как неразлучны были! По идее, я должен был дать слово каждому, включая покойника, но для этого надо обладать талантом прозаика, я же всего лишь поэт, а сюжет явно нестихотворный.
Иногда я думаю, что виной всему жилищные условия в нашей столице, куда мы попали почти одновременно, но на разных, что ли, основаниях. Больше всех повезло тому из нас, кому больше всех не везло прежде и не повезло после: сразу по освобождении Тимур вместе с денежной компенсацией получил комнату в коммуналке на Беговой — место наших регулярных, по четвергам, сборищ даже после того, как Тимур привел туда свою вторую жену (первую, лагерную, он оставил в Алма-Ате). А спустя еще полгода приютил в ней Кирилла, которому совершенно некуда было деться в Москве. С этого, собственно, все и началось, но не сразу, а обнаружилось еще позднее.
Теснота нашего советского общежития — питательная среда для такого рода конфликтов, а здесь тем более не любовный треугольник, а по крайней мере пятиугольник: на более просторных квадратных метрах этот сюжет заглох бы в зародыше, если бы и возник. Мы с Саулом жили тогда в общежитии Литинститута на Добролюбова, пока ему не повезло жениться на москвичке. Ко мне тогда подселили моего земляка, ленинградского критика Владимира Соловьева с его скандальным паблисити, неуживчивым характером и праздным умением по любой книге безошибочно отгадывать, кто ее автор — еврей или нееврей. Никакого отношения к этому сюжету он не имеет, у нас с ним был свой сюжет, как-нибудь — будет время — расскажу.
Наш квартет был маленьким интернационалом, я один был представителем большинства, а потому в меньшинстве: русский как нацмен. Тимур был узбек, Саул караим, Кирилл, которого мы звали Мефодием, болгарин, но с припи*дью — надо ли объяснять какой? А главное, мы были провинциалы и в лучших бальзаковских традициях приехали завоевывать столицу, хотя иного оружия, кроме литературы, у нас не было, да оно нам и не нужно было: литература в то время заменяла все остальные функции общества — так, по крайней мере, казалось. А вот чего у нас не было, так это богов, хотя живы еще были Ахматова с Пастернаком, вокруг которых роились ленинградцы и москвичи. Мы над этой кумирней только посмеивались, потому что сами ходили в богах и признавали первым среди равных нашего удачливого неудачника: Тимур был нашим учите лем, вожатым и гуру, и вовсе не потому, что несколькими годами старше. Два прозаика, один поэт и один никто — этот никто и стал нашим учителем, потому что был самым свободным из нас. В литературе он был неудачник — потому и никто. О жизни я сейчас не говорю, хоть он и опередил всех и ушел из нее первым, но здесь начинается какой-то иной счет, да и неизвестно, что нам еще предстоит, и где здесь удача, а где неудача — кто знает?
Нельзя сказать, что Тимур был бездельник, хоть и гедонист, что так понятно после его двенадцатилетних мытарств и в предвидении его мучительной смерти! Скорее уж, он был недостаточно честолюбив либо излишне бескорыстен — признаться, не очень уверен, какая именно характеристика ему подходит больше. Выйдя на волю сравнительно молодым — в двадцать восемь, а посадили в шестнадцать! — он услаждал себя тем, что было у нас с ранней юности, а у него появилось только сейчас: свободой, независимостью, женщинами, друзьями, отдельной комнатой — и славой. Да, да, славой, но — догутенберговой, изустной, фольклорной: он был великий сказитель, мы знали его байки наизусть, и каждый раз, когда появлялся новый слушатель, не уставали дивиться его устным новеллам заново, а заодно и реакцией на них новичка. Я и своего нового соседа по общаге привел как-то к Тимуру, заранее предвкушая его реакцию, — и не ошибся! Соловьев и в его генетической амальгаме отыскал искомую хромосому — бухарско-еврейскую. Мы могли слушать байки Тимура до бесконечности, до умопомрачения, как любимую пластин ку, и, когда рассказчик что-нибудь забывал или менял какую-нибудь деталь, мы подсказывали либо поправляли. А может быть, он ничего не забывал, а только делал вид, что забыл, и ждал нашей подсказки, и это было частью его тщательно подготовленного номера? Дошло до того, что мы уже просто заказывали ему рассказы, когда появлялись новые слушатели:
— Давай про лагерных бл*дей!
— Нет, лучше как ты читал зэкам Маяковского о советском паспорте!
Тимур садился прямо на пол, скрестив по-восточному ноги, в неизменной своей тюбетейке, похожий скорее на какого-нибудь бая, чем на писателя, а мы располагались вокруг и как завороженные слушали его жуткие и невероятно смешные истории. Репертуар его был не так чтобы очень велик, и постепенно он расширял тематику, от лагерной жизни его потянуло на среднеазиатское детство — помню историю про то, как гордый отец приучал его скакать на коне. Тимуру всего семь лет было, а конь без седла, вот он и стер мошонку до крови, но — праздник, гости, отцовская гордость, и Тимур терпел до конца. Он даже Сталина помнил — как тот держал его на коленях в каком-то правительственном санатории, а отец с Кагановичем о чем-то спорили.