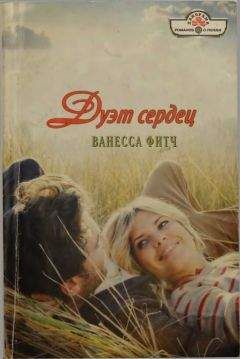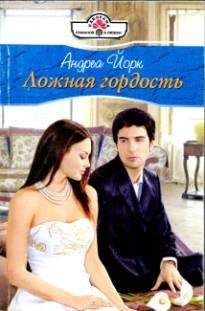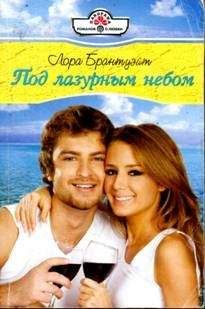Вальтер Беньямин - Московский дневник
В конце концов мне как-то удалось уговорить Асю прийти после ужина ко мне, мы пойдем куда-нибудь, или я прочту ей лесбийскую сцену. После этого я задержался еще на несколько минут, чтобы не возникало впечатления, будто я пришел только за этим. И вот я вскоре встал, сказав, что собираюсь уходить. «Куда?» – «Домой». – «Я думала, что ты еще пойдешь со мной в санаторий». – «Разве вы не останетесь здесь до семи?» – спросил я несколько наигранно. Дело в том, что утром я слышал, что в это время должна прийти секретарша Райха. В конце концов я все же остался, но не пошел с Асей в санаторий. Я посчитал, что ее приход вечером будет более вероятным, если я дам ей сейчас время отдохнуть. Пока что я купил для нее икры, мандаринов, конфет, пирожных. А еще я поставил на подоконник, где я собираю свои игрушки, две глиняные куклы, чтобы одну из них она выбрала себе. И она действительно пришла – заявив сначала: «Я могу задержаться только на пять минут и должна сразу же идти обратно». Но на этот раз она просто шутила. Я, конечно, чувствовал, что в последние дни – сразу после отчаянных ссор – она ощущает ко мне более сильную привязанность. Но я не знал, насколько она сильна. Когда она пришла, я был в хорошем настроении, потому что получил много почты с несколькими добрыми вестями от Виганда, Мюллера-Ленинга, Эльзы Хайнле119. Письма еще лежали на кровати, где я их читал. Кроме того, Дора написала мне, что деньги высланы, и поэтому я решил остаться здесь немного подольше. Я сказал ей это, и она бросилась мне на шею. Недели очень тяжелой ситуации настолько отдалили меня от надежды на подобное проявление симпатии, что потребовалось какое-то время, прежде чем я смог почувствовать себя счастливым. Я был словно сосуд с узким горлышком, в который плеснули жидкость из ведра. Постепенно я по собственной воле настолько сузил свое восприятие, что был уже едва доступен для полных, сильных внешних ощущений. Но в течение вечера это спало с меня. Сперва я с обычными уверениями попросил Асю о поцелуе. Но потом случилось вдруг такое, словно кто-то повернул электрический выключатель, и она требовала снова и снова, когда я говорил или собирался ей почитать, чтобы я ее целовал. Мы вспомнили почти забытые нежности. Тем временем я дал ей купленную еду и кукол; она выбрала одну из них, и теперь она стоит напротив ее кровати в санатории. И я еще раз заговорил о своем визите в Москву. И поскольку накануне, когда мы шли к Райху, она действительно сказала мне решающие слова, мне было достаточно их только повторить: «Место, которое в моей жизни занимает Москва, я могу узнать только через тебя – это правда, совершенно независимо от любовных историй, сантиментов и прочего».
Ну и потом, и это она тоже произнесла первой, шесть недель – это как раз то время, какое требуется, чтобы хоть как-то обжиться в каком-нибудь городе, к тому же не зная языка и ощущая его сопротивление на каждом шагу. Ася заставила меня убрать письма и легла на кровать. Мы много целовались. Но самое глубокое возбуждение у меня вызывало прикосновение ее рук, и она говорила мне раньше, что все, кто был с нею связан, ощущали, что наибольшая сила исходит именно от них. Я прижал свою правую ладонь к ее левой, и мы долго лежали так. Ася напомнила о замечательном совершенно крошечном письме, которое я как-то ночью передал ей на Виа Депретис в Неаполе, когда мы сидели за столиком перед маленьким кафе на почти пустынной улице. Надо будет попробовать разыскать его в Берлине. Потом я прочитал лесбийскую сцену из Пруста120. Ася поняла ее необузданный нигилизм: как Пруст, так сказать, врывается в аккуратно обставленный кабинет в душе обывателя, на котором висит табличка «Садизм», и все безжалостно разносит вдребезги, так что от блестящей, упорядоченной концепции греховности не остается ничего, более того, на всех разломах зло слишком ясно обнаруживает «человечность», даже «доброту», свою истинную основу. И пока я объяснял это Асе, мне стало понятно, насколько тесно это связано с основной тенденцией моей книги о барокко. Совсем как вечером накануне, когда я один читал в комнате и наткнулся на необычайное рассуждение о Caritas Джотто121, и мне стало ясно, что Пруст развивает здесь мысли, совпадающие с тем, что я пытался выразить понятием аллегории.
19 января.
Об этом дне почти нечего записать. Поскольку отъезд отодвинулся, я немного отдохнул от забот, связанных с последними днями в Москве. Райх впервые снова спал у меня. Утром пришла Ася. Но ей скоро надо было уходить на собеседование, связанное с возможностью новой работы. Во время ее короткого визита разговор зашел о применении газов на войне. Сначала она яростно спорила со мной, но вмешался Райх. В конце она сказала, что я должен записать то, что говорил, и я решил написать статью об этом для «Weltbühne»122. Вскоре после ухода Аси ушел и я. Я встретился с Гнединым. Наш разговор был непродолжительным; мы разобрались с воскресной неудачей, он пригласил меня на следующее воскресенье вечером к Вахтангову и дал мне несколько советов относительно таможенного оформления багажа. По пути к Гнедину и обратно я проходил мимо здания ЧК. Перед ним постоянно расхаживает часовой с примкнутым штыком. Потом на почту; я телеграфировал насчет денег. Пообедал я в погребке, где мы ели по воскресеньям, поехал потом домой и отдохнул.
В вестибюле санатория мне встретилась Ася, и сразу же, с другой стороны, подошел Райх. Ася шла принимать ванну. Все это время я играл в ее комнате с Райхом в домино. Потом пришла Ася и рассказала о перспективах, открывшихся для нее сегодня утром, о возможности получить место помрежа в одном театре на Тверской, где два раза в неделю играют для пролетарских детей123. Вечером Райх был у Иллеша. Я с ним не пошел. Около одиннадцати он появился у меня в комнате; но идти в кино, как мы планировали, было уже поздно. Краткий, ничем не кончившийся разговор о трупах в дошекспировском театре.
20 января.
С утра я довольно долго писал у себя в комнате. Так как Райх в час должен был по своим делам быть в редакции энциклопедии, я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы побывать там, не столько чтобы протолкнуть свою статью о Гёте (на это я совершенно не надеялся), сколько чтобы последовать предложению Райха и не быть беспечным в его глазах. Ведь в противном случае он мог бы объяснить отклонение статьи о Гёте моим бездействием. Я с трудом мог сдержать смех, когда оказался наконец перед ответственным профессором. Едва он услышал мое имя, как вскочил, вытащил мою статью и вызвал на помощь секретаря. Тот принялся предлагать мне статью о барокко.
Неизвестный фотограф. Без названия (Фотография ВЦИК (?). Снятие памятника Александру III на Пречистенской набережной). 1918 г.