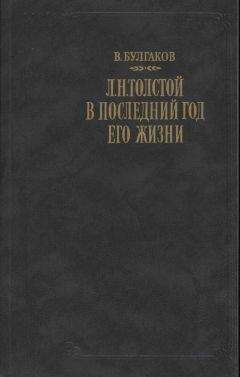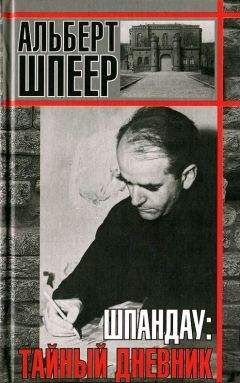Александр Гольденвейзер - Вблизи Толстого. (Записки за пятнадцать лет)
Сказав это, Л. Н. прибавил; что когда он писал к Николаю II (из Крыма, зимой 1901–1902 гг.), ему было передано что‑то вроде того, что «прочитал с удовольствием». Тут же он вспомнил про письма Герцена к Александру II.
Николаю Л. Н. писал о земельном вопросе. Об отношении правительственных людей к этому вопросу Л. Н. сказал:
— Я никак не могу стать на их точку зрения. Я помню, когда я был молод, был военным, я не задавался этими вопросами, они как‑то не возникали у меня; но я не могу себе представить, чтобы встретившись с таким воззрением, я бы мог пройти мимо него. Я помню два таких случая с собою. Раз, когда мне Василий Иванович Алексеев (учитель сына Ильи Львовича) в то время, когда я был в самом разгаре своей помещичьей жизни, впервые высказал мысль, что земельная собственность — зло. Я помню, как меня поразила эта мысль и как сразу для меня открылись совершенно новые горизонты. Так же было, когда не помню кто — француз какой‑то — сказал мне, что проституция вещь ненормальная и не только не нужная, а просто вредная для человечества. Шопенгауэр, например, говорит, что только благодаря проституции сохранились еще в обществе людей семейные отношения. Я, не думавший раньше об этом, после слов француза сразу почувствовал истину и уже не мог идти назад. Я могу представить себе, что можно не думать в известном направлении, не знать какой‑нибудь точки зрения. Но этой неспособности, нежелания понять, я не могу объяснить себе.
9 июля. Говоря об афоризмах Лихтенберга, Л. Н. сказал:
— Афоризмы — едва ли не лучшая форма для изложения философских суждений. Например, афоризмы Шопенгауэра («Парерга и Паралипомена») гораздо ярче выражают его миросозерцание, чем «Мир как воля и представление», философ, излагая целую сложную систему, невольно перестает иногда быть честным. Он делается рабом своей системы, для стройности которой он часто готов жертвовать истиной.
Говоря о прекрасном немецком языке Лихтенберга, Л. Н. сказал:
— Каждый литературный язык доходит до своей высшей точки и затем начинает падать. В немецком языке это время было конец восемнадцатого и первая половина девятнадцатого столетия, так же и во французском языке. Теперь там (в Германии и Франции) язык стал совершенно испорчен. У нас в России мы только находимся на этом рубеже. Русский язык достиг недавно своего апогея и теперь начинает решительно портиться.
Л. Н. очень хвалил язык Чехова за простоту, сжатость и изобразительность. Язык Горького он порицает, находя его искусственным, напыщенным.
Потом говорили о японцах. Л. Н. сказал:
— Их религиозно — нравственный уровень мне мало ясен. Читая китайских — Лао — Цзы, Конфуция, не говоря уже об индусских, чувствуешь связь с ним, он отвечает на твои вопросы, и если иногда многое неясно и непонятно — это почти наверное можно отнести на счет переводов, так как китайский язык по своей конструкции совершенно чужд арийским и обороты его, вероятно, крайне трудно поддаются передаче на европейские языки. В Японии — совсем иначе. Их живопись хотя и странна, но ее своеобразная прелесть все‑таки действует на нас. Выразительность лиц и поз на их рисунках бывает удивительная. Что же касается литературы — там все, что мы знаем, — совершенно ничтожно и чуждо. А об их религиозно — нравственных воззрениях мне ничего не известно. Нехороший признак то, как быстро и легко они усвоили себе все дурные стороны так называемой европейской культуры.
По поводу повсеместного благословения Николаем II иконами войск, отправляющихся на войну, Л. Н. сказал:
— Если правитель огромной страны, берет в руки доску и целует ее перед многотысячной толпой коленопреклоненных войск, а потом машет ею над головами впереди стоящих и проделывает это по всей стране — что, кроме чепухи, может происходить в таком государстве? Этого еще никогда не бывало. Можешь там у себя в комнате делать что хочешь. Один обтирается вином или одеколоном, другой может целовать иконы, если ему нравится, но такое всенародное идолопоклонство и обман толпы просто невероятны!..
По поводу войны Л. Н. постоянно говорит, что, несмотря на его отношение к войне и вообще к патриотизму, он в глубине души чувствует всегда невольную боль при поражении русских.
Я слышал, как он говорил это при Горбунове, Бутурлине и еще при ком‑то; все они энергично отрицали в себе такое чувство невольного «патриотического пристрастия». Мне кажется — они просто боятся в нем сознаться даже перед самими собой.
22 октября. Мечников прислал Л. Н свою книгу «Этюды о природе человека» на французском языке. Л. Н. ее прочитал. Нынче он сказал мне:
— Я много вынес из этой книги интересных сведений, так как Мечников несомненно большой ученый. Только удивительна в нем самодовольная ограниченность, с какой он убежден, что решил чуть ли не все вопросы, волнующие человека. Он так уверен, что счастье человека в его животном довольстве, что, называя старость злом (вследствие ограничения в ней способности физического наслаждения), даже и не понимает, что есть люди, думающие и чувствующие совершенно наоборот. Да я дорожу своей старостью и не променяю ее ни на какие блага мира.
Зашел разговор о стремлении всех женщин поступать на курсы. Л. Н. сказал, смеясь:
— Будь я министром, я издал бы указ, по которому все женщины были бы обязаны поступать на курсы и лишались бы права вступать в брак и иметь детей. За нарушение этого распоряжения виновные подвергались бы строгому административному взысканию. Наверное, все бы замуж повыходили!..
Л. Н. с негодованием говорил о писательстве (это было еще 28 августа) как о профессии. Редко видел я его таким возбужденным. Между прочим, он сказал:
— Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса…
1905
13 февраля. О конституции в России Л. Н. сказал:
— Едва ли можно ждать ее теперь. Главнейшие препятствия: 1) реакционная, еще очень сильная партия и правительство, опирающееся на войска; 2) радикальная партия, считающая конституцию полумерой и боящаяся, что слишком многие на этом примирятся; 3) люди христианских убеждений, не в этом видящие цель и смысл борьбы, и, наконец, 4) — и это едва ли не самое главное препятствие — народ, в котором еще очень сильна вера в царя и который объясняет все попытки образованных классов ограничить царскую власть как противодействие царю, желающему отнять землю у помещиков и отдать народу. Кроме того, в народе еще сильно чувство к царю, как свыше поставленному главе, о котором говорили славянофилы.