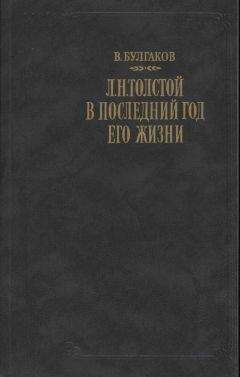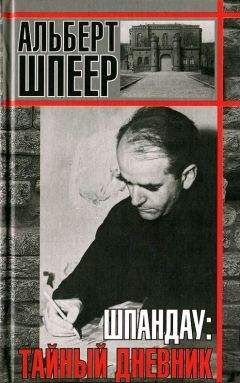Александр Гольденвейзер - Вблизи Толстого. (Записки за пятнадцать лет)
Недавно около Ясной на шоссе остановился цыганский табор. Цыгане часто кочуют в окрестностях Ясной Поляны. Табор обыкновенно останавливается дня на два — три, и по вечерам обитатели Ясной гурьбой отправляются туда слушать пенье и любоваться на пляску цыган.
Л.H., глядя на них, преображался и сам невольно начинал приплясывать и одобрительно вскрикивать.
— Экой удивительный народ! — говорил он.
Старики цыгане все знают его и всегда вступают с ним в разговор. Л. Н. смолоду любит и знает цыган и их своеобразную жизнь.
На этот раз Л. Н. также отправился со всеми. Между прочими были: Н. В.Давыдов, княгиня Ел. В.Оболенская и Андрей Львович, приехавший проститься перед отъездом на войну.
Когда мы вышли из дому, слегка накрапывал дождь. Скоро дождь припустил, и мы повернули обратно. Андрей Львович сказал:
— Вот мы домой придем, дождь перестанет.
И действительно, на полдороге дождь перестал, и мы пошли назад к цыганам. Л. Н. сказал:
— Да, это всегда так бывает: как повернешь домой, дождь пройдет. Вот, так же в Москве. Когда нужно кого‑нибудь разыскать в большом доме и звонишь к дворнику, его никогда не бывает. А стоит войти во двор, чтобы помочиться, и сейчас же выскочит дворник. Так что, я советую, если вам кого‑нибудь нужно разыскать, вы не звоните к дворнику, а прямо начинайте со второго.
По поводу назначения Андрея Львовича ординарцем Л. Н. сказал ему:
— Меня одно только утешает, что ты, наверное, не убьешь ни одного японца. Ординарец постоянно подвергается большой опасности, а сам в стрельбе редко участвует. Я бывал много в Севастополе на четвертом бастионе; в Дунайской армии был ординарцем, и, кажется, стрелять мне не пришлось ни разу. Я помню, раз на Дунае у Силистрии мы стояли на нашем берегу Дуная, а была батарея и на той стороне, и меня послали туда с каким‑то приказанием. Командир той батареи, Шубе, увидав меня, решил, что вот молодой графчик, я ж его проманежу! И повез меня по всей линии под выстрелами, и нарочно убийственно медленно. Я этот экзамен выдержал наружно хорошо, но ощущение было очень скверное. Помню также, как на бастион в Севастополе приехал один из высших начальников — Коцебу и кто- то, кажется Новосильцев, хотел его испытать и все стал показывать ему: «Да вы посмотрите, ваше превосходительство, вот там на их линию», — заставляя его высовываться из‑за укреплений. Он раз — другой выглянул, а потом, поняв в чем дело, стал, в свою очередь, посылать, как начальник, того, и уже промучив его долго, сказал: «В другой раз советую вам не сомневаться в храбрости вашего начальства».
Л. Н. вспомнил афоризм Лихтенберга, смысл которого тот, что человечество окончательно погибнет, когда не останется больше ни одного варвара.
Л. Н. прибавил:
— Я думал прежде об японцах, но они уже усвоили с успехом все отрицательные черты нашей культуры. Теперь вся надежда на кафров.
Л. Н. сказал:
— Я не помню при всех прежних войнах того удрученного, гнетущего настроения, которое чувствуется теперь в России. Я думаю, это хороший признак — указание на то, что сознание зла, ненужности, нелепости войны все более проникает в общественное сознание; так что, может быть, близко то время, когда войны станут невозможны — никто не станет воевать. Вот Лизанька (Е. В.Оболенская) рассказывает — она всегда подметит хорошее, — взяли мужика на войну, кажется дворника, и он, отправляясь, снял с себя крест. Вот истинно христианское отношение! Хотя он и не имеет силы противостоять общему движению и повинуется, но все‑таки ясно сознает, что это дело не Божье.
Л. Н. вспомнил с ужасом рассказ о священнике, который с крестом в руках шел впереди солдат.
25 июня. Недели три тому назад у Л. Н. были какие‑то барышни, кажется фельдшерицы, едущие на войну. Они были чрезвычайно воодушевлены мыслью о том, что едут помогать страждущим.
Л. Н. говорит, что ему было больно разочаровывать их, но все‑таки он им сказал:
— Разумеется, хорошее дело помогать тем, кто страдает, но зачем для этого ездить на Дальний Восток, когда здесь в народе так много страданья, о котором никто не говорит и на помощь которому никто не приходит? А там люди страдают, сойдясь убивать и мучить друг друга.
Только что девицы эти ушли, пришла какая‑то баба из ближней (не помню какой) деревни, больная, несчастная, — целое собрание всяких бед. Л. Н. побежал догонять фельдшериц и указал им на этот живой пример, иллюстрирующий его слова.
Рассказывая это, Л. Н. вспомнил, как Мария Александровна Шмидт жила около Серпухова.
— Это было ее лучшее время, — сказал Л.H., — мы с Колечкой Ге — твоим отцом (Л. Н. обернулся к П. Н. Ге, бывшей в комнате) шли из Москвы пешком в Ясную Поляну и зашли к ней. Она жила совсем одна. Там мужики все уходят из дому на заработки, а дома работают бабы. Все они, измученные непосильной работой, — грубые, несчастные, многие пьют, как мужики; дети без призору, грязные, умирают… И вот Мария Александровна вся отдалась помощи этим несчастным. Когда у тех, где она жила, нечем было внести подати, и хотели продать корову, и стоял плач, она собрала последние оставшиеся у нее ценные вещи — какую‑то брошку и браслет, продала все это рублей за пятьдесят — шестьдесят и справила им подати.
26 июня. На прошлой неделе я был в Ясной вечером. Там были Сухотины. Вечером за чаем Миша Сухотин заговорил со Л. Н. о том, что по окончании училища правоведения он хочет ехать учиться в Париж, и стал со Л. Н спорить. Начала спора я не слыхал. Подошел я вот на чем:
— Всякий человек, — говорил Л.H., — это существо совершенно особенное, никогда не бывшее и которое никогда больше не повторится. В нем именно эта его особенность, его индивидуальность и ценна, а школа старается все это стереть и сделать человека по своему трафарету. У меня были тульские кончившие гимназисты и спрашивали, что им делать. Я им сказал: прежде всего постарайтесь позабыть все то, чему вас учили.
Л. Н. считает русский университет в Париже совершенно бесцельным и ни на что не нужным. Он сказал:
— Лучшее высшее образовательное учреждение, которое мне пришлось видеть, это Кенсингтонский музей в Лондоне. Там при огромной публичной библиотеке, где работает много народу, есть по различным специальностям профессора. Каждый работающий, если у него является какой‑нибудь вопрос, может заявить об этом, и когда накопится несколько таких вопросов, профессор вывешивает объявление, что он будет тогда‑то читать по таким‑то вопросам, и все желающие могут прийти и слушать. Такая постановка дела наиболее соответствует назначению учения — отвечать на вопросы, возникающие в уме учащихся. Везде же читаются, в большинстве случаев совершенно бездарными профессорами, курсы, которые совсем не нужны слушателю. Все эти лекторы никогда бы и не решились напечатать свои лекции. Еще Гёте сказал: «Когда я говорю, выходит лучше, чем когда я думаю, пишу я лучше, чем говорю, а когда печатаю — это лучше, чем то, что я пишу». Этим он высказал мысль, что то, что человек печатает, обыкновенно составляет лучшее из того, что он думал, то, в чем он наиболее сам убежден. Чем ехать в Париж лекции слушать, ступай в публичную библиотеку, и ты двадцать лет не выйдешь оттуда, если ты только действительно хочешь учиться. О себе собственно говорить не следует, но я вот про себя скажу: когда я был в Казани в университете, я первый год действительно ничего не делал. На второй год я стал заниматься. Тогда там был профессор Мейер, который заинтересовался мною и дал мне работу — сравнение «Наказа» Екатерины с «Духом законов» Монтескье. И я помню, меня эта работа увлекла; я уехал в деревню, стал читать Монтескье; это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься. А там я должен был заниматься тем и учить то, что меня не интересовало и не было мне ни на что нужно.