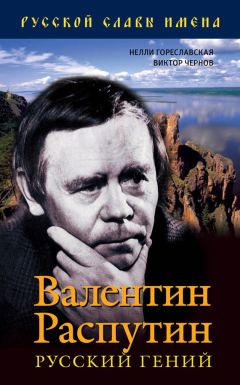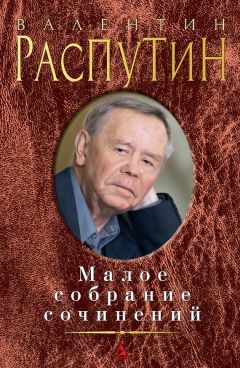Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 2
— Много. Приходите ко мне завтракать, и вы все увидите.
— С большим удовольствием.
Очарованный тем, что еще есть оракулы, и уверенный, что они будут существовать, пока в мире можно найти греческих священников, я направился с этим добрым человеком на борт его тартаны, где он распорядился о добром завтраке. Его товары состояли из шелка, тканей, винограда, который называют коринфским, масла и превосходных вин. Были также чулки, чепцы из шелка, восточные халаты, зонты и бисквитный хлеб, (который я очень любил, потому что у меня тогда было тридцать зубов редкостной белизны. Из этих тридцати зубов сегодня осталось у меня только два; двадцать восемь пропали вместе со многими другими благами; но «dum vita superest, bene est».[20]
Я купил всего, кроме шелка, потому что не знал, что с ним делать, и, не торгуясь, заплатил ему тридцать пять или сорок цехинов, которые он запросил. Он мне дал в подарок шесть превосходных botargues[21].
Выслушав мое предложение закупать ксантийское вино, которое называется Генеруадес, он сказал, что если я составлю ему компанию до Венеции, он будет давать мне бутылку этого вина вплоть до Венеции, даже на время карантина. Всегда немного суеверный, приняв это приглашение за голос Бога, я сразу решил согласиться по самому дурацкому из соображений: потому что в этом странном предложении не было ничего предумышленного. Таков я был, но, к сожалению, я теперь другой. Потому что, как говорят, старость придает человеку ума. Я не знаю, как можно дорожить результатом глупой причины.
В тот момент, когда я готов был поймать его на слове, он предложил мне хорошее ружье за десять цехинов, в то время, как на Корфу мне за него дадут двенадцать. При упоминании Корфу мне показалось, что сам бог говорит со мной и приказывает туда вернуться. Я купил ружье, и бравый кефалониец дал мне в приложение красивый турецкий ягдташ, наполненный свинцом и порохом. Я пожелал ему доброго пути и со своим ружьем, запрятанным в отличный чехол, засунув все, что купил, в мешок, вернулся на берег, решив поселиться у плута — попа добром или силой. Импульс, который мне придало вино грека, должно было возыметь последствия. У меня было в карманах четыре или пять сотен медных монет, которые мне показались чересчур тяжелыми; однако мне надо было ими распорядиться. Легко было предвидеть, что на острове Казопо эта монета мне пригодится.
Поместив свой мешок в сарае, я направился с ружьем на плече к дому попа. Церковь была закрыта. Но я должен теперь дать своим читателям представление о том, что я собой представлял в тот момент. Я был в спокойном и безнадежном состоянии. Три — четыре сотни цехинов в моем кошельке не могли мне помешать думать, что в том месте, где я нахожусь, я вишу в воздухе, что я не смогу оставаться здесь надолго, что в скором времени станет известно, где я есть, и при неявке в суд меня первоочередным образом приговорят заочно и поступят соответственно. Я чувствовал невозможность принять какое-либо решение: одного этого было достаточно, чтобы сделать ситуацию внушающей ужас. Я не мог больше вернуться на Корфу добровольно, чтобы меня не сочли дураком, потому что, вернувшись, я представил бы явный признак легкомыслия или малодушия, и, тем не менее, я не решался дезертировать. Главной причиной такой моральной беспомощности не была ни тысяча цехинов, оставшаяся у кассира кафе, ни мои украшения, довольно дорогие, ни опасение, что я не найду, на что дальше жить; это была мадам Ф., которую я обожал и которой до сих пор даже не поцеловал руку. В этом отчаянном положении я мог только следовать сложившимся обстоятельствам. В данный момент я должен был подумать о том, где поселиться и чем питаться.
Я с силой постучал в дверь священника. Он появился в окне и, не слушая, что я говорю, захлопнул его снова. Я снова стучу, я ругаюсь, бушую, — никто мне не отвечает, и в гневе я разряжаю свое ружье в голову барана, щиплющего траву, вместе с несколькими другими, в двадцати шагах от меня. Пастух кричит, и поп снова в окне, крича о ворах, бросается бить в набат. Звонят разом три колокола. Я предвижу появление толпы, что будет дальше — не знаю. Я перезаряжаю ружье.
Восемь — десять минут спустя вижу массу крестьян, спускающихся с горы и вооруженных ружьями, вилами, кольями. Я отхожу к бараку, и не испытываю страха, потому что считаю противоестественным, что меня, одиночку, эти люди собираются убить, не выслушав.
Первыми прибежали десять — двенадцать молодых мужчин, держащих ружья наготове. Я останавливаю их, бросая горстями медные монеты, которые они начинают в удивлении собирать, и продолжаю это делать последующим взводам, пока не прибежали все. Эта деревенщина остолбенела, не понимая, что делать с молодым человеком мирного вида, разбрасывающим таким образом свое добро. Я смог начать говорить, только когда прекратился колокольный звон, но поп, пастух и церковный сторож меня перебивали, тем более, что я говорил по-итальянски. Они говорили все трое разом, указывая на негодяя. Я сидел на своем мешке, сохраняя спокойствие.
Один из крестьян, разумного вида и более взрослый, приблизился ко мне и спросил по-итальянски, почему я убил барана.
— Чтобы его съесть, предварительно заплатив.
— Но Его Святость может захотеть за него цехин.
— Вот цехин.
Поп берет цехин, уходит, и вся распря окончена. Крестьянин, который со мной говорил, сказал, что служил в войну 16 года и оборонял Корфу. Я сделал ему комплимент и попросил найти мне удобное жилье и хорошего слугу, который сможет готовить еду. Он сказал, что предоставит мне целый дом, и сам будет готовить еду, но надо подняться в гору. Я согласился, и мы поднялись, сопровождаемые двумя рослыми мальчиками, один из которых нес мой мешок, а второй — моего барана. Я сказал этому человеку, что хотел бы взять на службу двадцать четыре парня, таких же, как эти двое, подчиняющихся воинской дисциплине, которым я буду платить двадцать монет в день, а ему — сорок, в качестве моего лейтенанта. Он ответил, что я не прогадаю, и он покажет мне военную гвардию, которой я буду весьма доволен.
Мы приходим в дом, очень удобный, в котором на первом этаже мои три комнаты, кухня и длинная конюшня, которую я преобразую в кордегардию. Он покидает меня, чтобы найти все, что мне необходимо, и прежде всего женщину, чтобы пошила мне рубашки. В течение дня я получаю все это: кровать, мебель, хороший обед, кухонную утварь, две дюжины парней — все со своими ружьями — и пожилую портниху с молодыми помощницами, чтобы готовить и шить рубашки. После ужина я остался в самом превосходном настроении среди этого общества, состоящего из тридцати человек, которые считали меня своим сувереном и не могли понять, что я собираюсь делать на этом острове. Единственное, что мне не нравилось, это что девушки не говорили по-итальянски: я слишком плохо знал греческий, чтобы надеяться образовать их своим словом. Я увидел свою гвардию построенной на следующее утро. Боже, как я смеялся! Мои замечательные солдаты были все «Пали-кари»[22], но компания солдат без униформы и без дисциплины внушала смех. Они смотрелись хуже, чем стадо баранов. Они должны были, однако, научиться владеть оружием и подчиняться приказам своих офицеров. Я установил три караула — один в кордегардии, другой в моей комнате и третий под горой, где он наблюдал за пляжем. Он должен был предупредить нас, если замечал появление какого-нибудь вооруженного судна. Первые два — три дня я собирался развлекаться, но я больше не считал происходящее баловством, поскольку предвидел, что наступит день, когда я должен буду прибегнуть к силе, чтобы защититься от силы. Я думал привести всех к присяге, но еще не определился. Мой лейтенант заверил, что все зависит от меня. Моя щедрость обеспечила мне любовь всего острова. Моя кухарка, которая нашла мне портних для шитья рубашек, надеялась, что я полюблю какую-нибудь из них, но не всех; я превзошел ее надежды, она обеспечивала мне благосклонность всех тех, кто мне нравился, и обеспечила мою благодарность. Я вел поистине счастливую жизнь, поскольку мой стол был также отменным. Я ел только сочного барашка и бекасов, подобных которым я едал только двадцать два года спустя в Петербурге. Я пил только вино из Скополо и лучшие мускаты с островов Архипелага. Лейтенант был моим единственным сотрапезником. Я ходил на прогулку только в сопровождении его и двух моих «Паликари», которые должны были меня защитить от некоторых молодых людей, которые были мной недовольны, поскольку им казалось, что мои портнихи — их возлюбленные — их покинули из-за меня. Я думал о том, что без денег я был бы здесь несчастлив, но неизвестно, осмелился бы я без денег покинуть Корфу.