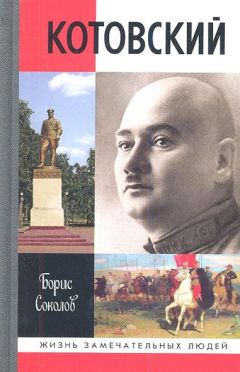Василий Козаченко - Молния
И дома девушка покоя не имела. Грицько хоть и был, как прежде, послушным и внимательным, а все-таки... Лицо у парня обветрилось, глядеть он стал исподлобья не то настороженно, не то со злостью. На глазах дичал, шастал где не следует, таскал со станции уголь, а из-под молотилки зерно.
Носился с патронами, с каким-то белым, похожим на вермишель, порохом. Когда этот порох горел, то прыгал по всему двору, словно на пружинке. Грицько набрал где-то цветных ракет, начал с мальчишками меняться и однажды притащил настоящую гранату. А тут еще простудилась маленькая Надя. И сразу, будто кто-то только и ждал этого сигнала, посыпались неприятности одна за Другой.
Как-то в воскресенье перед Октябрьскими праздниками, недалеко от МТС она встретила свою школьную подружку дочь лесника из соседнего, километров за сорок, Подлесненского района, Яринку Калиновскую. В коротенькой меховой шубке, шапке-ушанке, невысокая, круглолицая, хорошенькая Яринка бежала куда-то к станции, постукивая по мерзлой земле каблучками на подковках.
Завидев ее издалека, Галя обрадовалась и бегом поспешила навстречу.
- Яринка! Здравствуй! Как ты тут очутилась?
А Яринка даже не улыбнулась. С явной неохотой остановилась, даже отшатнулась, боясь, что Галя бросится обнимать ее. И стояла, видно, недовольная встречей, досадуя, смущаясь и стараясь скрыть свое смущение.
- Ты что, Яринка? Не узнаешь меня?
- Нет, чего же... Просто так... Спешу... На станцию.
Машина там как раз в нашу сторону идет.
- Ну как ты, где? Что делаешь? -все еще ничего не понимая, но уже чуя что-то недоброе, спрашивала Галя.
- Живу дома. А делать... Что теперь будешь делать?
К чему и для кого?..
Помолчала с минуту и с явным осуждением, не то спрашивая, не то утверждая, сказала:
- А ты, я слышала, в немецкой типографии работаешь? Или в управе? -На слове "немецкой" она сделала заметное ударение и сразу же, обойдя Галю, шагнула куда-то в сторону. - Ну, прощай... Спешу...
Галя так и осталась стоять посреди улицы, как оплеванная.
Досада, тоска и обида душили ее. Ей хотелось броситься вслед за Яринкой, крикнуть: "Постой! Послушай, как ты могла подумать такое?" Но она сдержалась.
Домой она уже не шла, а бежала. Оскорбленная, растерянная, она с ужасом вспоминала о том, что не только Яринка так на нее глядела, и до этого она не раз ловила на себе странные, непонятные взгляды. Бывало, увидев ее, кто-нибудь из знакомых или школьных подруг пожмет плечами и заторопится дальше. "И чего это они? Неужто я так изменилась, что люди стали меня обходить?" - спрашивала себя Галя. А оно, выходит, вон что! И хоть бы какой толк был от этой работы - не жалко и потерпеть, а так... Эх, послушалась Максима, теперь, гляди, еще не раз покаешься!
А Максим вон уже сколько времени и глаз не кажет.
Издали только раза два видела его. Верно, ему сейчас не до нее.
Под вечер следующего дня в типографию забрел заместитель немецкого коменданта, белобрысый и долговязый лейтенант Клютиг. Шнырял по комнате, расспрашивал о чем-то, моргал круглыми желтыми, будто сонными глазами. Вертел во все стороны стриженной под бокс маленькой головой на длинной шее.
Клютиг заходил в типографию не в первый раз. Зайдет, повертится немного и выйдет. Галя на него внимания не обращала. Он и сейчас прошелся из угла в угол, поковырял зачем-то шрифты в кассе и, когда Панкратий Семенович отвернулся, воровато обхватил девушку за талию. Панкратий Семенович тоненько, угодливо хмыкнул.
А Галю морозом по спине сыпануло. Вывернулась и в один миг оказалась у самого окна. "Только этого мне еще не хватало!" - подумала она тоскливо.
Дома, уткнувшись лицом в подушку, целый вечер проплакала, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться в голос и не растревожить детей.
Утром поднялась осунувшаяся, с красными опухшими глазами. На работу не пошла. Осталась дома присмотреть за больной сестренкой.
Три дня, пока Надийке не стало легче, сидела дома.
Готовила обед, ходила по воду, стирала и таким образом немного отвлеклась от тяжких мыслей. Но чуть только переставала заниматься домашними делами, опять на глазах выступали горькие слезы.
Удрученная своими заботами, она и не заметила, как прошли Октябрьские праздники. Не раз она порывалась пойти к Максиму или хотя бы Грицька к нему послать, но так и не решилась. Не осмелилась нарушать его запрет и... стеснялась почему-то. Не хотела ему такой на глаза показываться растерянной и зареванной.
На четвертый день за ней из управы прислали полицая с приказом завтра с утра выйти на работу.
Панкратий Семенович с недоверчивым видом выслушал рассказ о больной сестренке и все бурчал. Работы накопилось много, пришел заказ из управы соседнего района, еще какие-то отчетно-финансовые формы для ге
бита приказано напечатать. Дело стоит. Хозяева могут разгневаться, в неблагонадежности заподозрить.
Галя, закусив губу, молчала. Но атмосфера в типографии становилась с каждым часом напряженнее, над девушкой явно сгущались тучи.
Гром грянул уже под вечер.
Панкратий Семенович в одном из бланков заметил вдруг опечатку и обнаружил ее только тогда, когда половину бланков уже отпечатали. Виновата была Галя. Недоглядела. Не до того было.
Старик схватился за голову, забегал по комнате и впервые, кажется, за все время раскричался:
- К черту! К чертовой бабушке, прошу вас, с такой работой! Это вам не при большевиках! От голодной смерти спас, пожалел - и вот тебе благодарность! По-комсомольски - косо, криво, абы живо! Вот как выгоню... заберут в Германию, там тебя выучат. Сразу б вас в хозяйские руки надо! Только вот характер у меня мягкий...
Галя не сдержалась, сверкнула на него горячим от ненависти взглядом и так стукнула об пол набивной щеткой, что старик даже подскочил от неожиданности и испуганно втянул голову в плечи.
- Провалиться вам с вашей работой и с вашими хозяевами вместе! Хоть в Германию, хоть к черту на рога - только бы вас не видеть!
- Тю, сумасшедшая! Сбесилась - отступил от нее Панкратий Семенович и, сверля девушку настороженнопытливым взглядом острых, как иголки, глаз, проговорил уже примирительно, сладеньким голоском: - Уж и слова ей не скажи!
Эта кротость не обманула Галю. Она уже знала, как мстителен был этот продавшийся немцам Панкратий Семенович. Но она была в таком исступлении, в такой ярости, что хоть на виселицу, ей сейчас было все равно.
Домой она возвращалась в тяжелом настроении - и на белый свет не смотрела бы. Не выдержали, сдали нервы. Ломило голову, боль сжимала сердце. Все впереди казалось беспросветно-темным, мрачным. Что теперь будет с ней - не знала. Твердо решила: в типографию к этому постылому Панкратию, к гадюке Клютигу она не вернется. Ни за что не вернется - пусть ее хоть на куски режут...