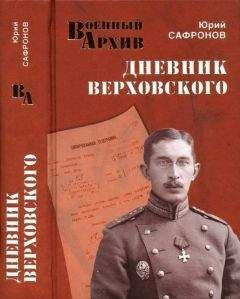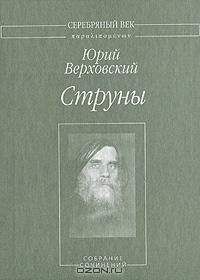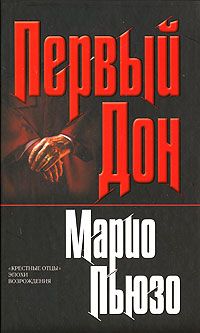В. Балязин - Герои 1812 года
В конце речи Барклай предложил отступить на Владимирскую дорогу, чтобы сохранить сообщение с Петербургом.
— Хорошо ли сообразили те последствия, которые повлечет за собой оставление Москвы, самого обширного города в империи, и какие потери понесут множество частных лиц? — воскликнул Беннигсен, сразу же поставив вопрос несколько иначе. — Подумали ли вы, что будут говорить крестьяне, общество и вообще весь народ, и как их мнение может иметь влияние на способности для продолжения войны? Поскольку неприятельские корпуса идут в обход наших флангов, необходимо в течение ночи перевести все войска на левое крыло и двинуться навстречу неприятелю, ослабленному отделением этих корпусов. Мы непременно разобьем неприятеля, и он будет вынужден притянуть к себе те корпуса, дабы они не были отрезаны нами.
— О битом следовало бы подумать раньше и сообразно с тем разместить войска, — с горечью сказал Барклай. — Время еще не было упущено, когда я в первый раз объяснил вам невыгоды позиции; но теперь уже поздно, ночью нельзя передвигать войска по непереходимым рвам, и неприятель мог бы ударить по нас, прежде нежели мы успели бы разместить войска в новом положении.
Очередь высказаться дошла до других членов совета.
Дохтуров поддержал Бенпигсена. «Я в отчаянии, — писал он жене на другой день, — что оставляют Москву. Какой ужас, мы уже по сю сторону! Я прилагаю все старания, чтобы идти врагу навстречу. Беннигсен был того же мнения; он делал все, что мог, чтобы уверить, что единственным средством не уступать столицу было бы встретить неприятеля и сразиться с ним. Но это отважное действие не могло подействовать на этих малодушных людей. Какой стыд для русского покинуть столицу без малейшего ружейного выстрела и без боя! Я взбешен, но что же делать!»
Коновницын согласился с мнением Беннигсена и предложил немедленно атаковать неприятеля. Его поддержал Платов.
Генерал Остерман выступил против предложения Беннигсена, генерал Раевский придерживался того же мнения.
Полковник Толь, любимец Кутузова, считал необходимым оставить позиции, избранные Беннигсеном, и расположить армию правым флангом к деревне Воробьевой, а левым — к новой Калужской дороге, и в дальнейшем отступать по старой Калужской дороге.
Очередь дошла до Ермолова, и он, накануне ратовавший за отступление, вдруг заговорил о немедленной атаке на противника.
— Такие мнения может высказывать лишь тот, на ком не лежит ответственность, — резко сказал Кутузов, видимо, очень недовольный двуличностью Ермолова в этом сложнейшем вопросе.
Так разделились мнения. Последнее слово осталось за Кутузовым. И он закрыл совет пророческими словами:
— С потерею Москвы не потеряна еще Россия. Первою обязанностью поставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут ей на подкрепление, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечеству. Приказываю отступать.
Весть о решении оставить Москву быстро распространилась по армии. «Чувство великой, несказанной скорби овладело всеми сердцами, — запишет в своих „Памятных записках“ Граббе, — стыдно было смотреть друг на друга. Казалось, что Россия отрекалась от самой себя, что она сознавалась в своем бессилии и складывала оружие перед гордым победителем».
Какие же тяжелые переживания выпали в этот период на долю Кутузова!.. В первое время многие его осудили за этот шаг; им был недоволен Александр I. Но мудрый полководец понимал, что отступление из Москвы — это ловушка для неприятеля. Пока он будет грабить Москву, русская армия отдохнет, пополнится ополчением и новобранцами и тогда двинется со свежими силами на врага. Кутузов не раз повторял, что он заставил турок в последнюю войну есть падаль и лошадиное мясо и что французов ждет та же судьба.
«Глубокое молчание, — рассказывает очевидец, эмигрант из Франции Кроссар, — господствовало во все время прохода армии через Москву, но то не было молчание трусости, а молчание глубокого горя. Ни на одном лице я не заметил следов отчаяния, считающего все потерянным, но я наблюдал мрачное и сосредоточенное выражение чувства мести. Князь Голицын, с которым я шел рука об руку, не сказал все время ни слова. Только за городом прервал он это мрачное молчание. „О, зачем не убит я вчера? — вырвалось у него, и мне показалось, что слезы блеснули у него на глазах. — Тогда бы прах мой покоился наряду с останками моих предков в обители, основанной их благочестием“».
Да, в рядах вновь отступавшей армии преобладало чувство глубочайшего горя, ведь русские солдаты покидали древнюю столицу.
Москва! — как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось…
Но русские патриоты, кроме тоски и унижения, испытывали непреодолимую жажду мести за Москву: многие стали даже говорить, что этот позор может быть изглажен только завоеванием Парижа.
Отступление русской армии сильно подействовало на Платова. Именно к этому времени относится его клятва отдать в жены свою дочь Марию тому казаку или воину русской армии, который возьмет в плен Наполеона. Как стало ясно из мемуаров офицеров наполеоновской армии, эта клятва Платова была известна и во французской армии. В своих воспоминаниях наполеоновский генерал Дедем писал: «В армии громко говорили, что атаман Платов обещал руку своей дочери тому, кто доставит ему Наполеона живым, будь это даже простой русский солдат». Через некоторое время даже выпустили гравированную картину с изображением молодой казачки. Надпись внизу гласила: «Из любви к отцу отдам руку, из любви к Отечеству — сердце».
В те дни, когда русская армия отступала, полчища Наполеона мечтали побыстрее войти в древнюю столицу Русского государства. Еще бы! Наполеон обещал в Москве отдых, теплые зимние квартиры и всевозможное изобилие. А главное: захват столицы — это долгожданный конец войны в этой стране, где жители сами сжигают города и села, оказывают каждодневное сопротивление. Так считали Наполеон и его вояки.
В два часа дня Наполеон въехал на Поклонную гору. Посмотрев в сторону Москвы, воскликнул:
— Вот он наконец, этот прославленный город!
Затем приказал двумя пушечными выстрелами известить армию о вступлении в Москву. Мюрат с авангардом и молодой гвардией двинулся к Дорогомиловской заставе, Понятовский — к Калужской, вице-король — к Тверской…
Возле Дорогомиловской заставы Наполеон сошел с коня и стал ждать депутацию с ключами от покоренного города. Но время шло, а она все не приходила… Вскоре к Бонапарту явился офицер и известил о том, что Москва пуста. «Такая нечаянная весть, — пишет Корбелецкий в книге „Краткое повествование о вторжении французов в Москву и о пребывании в оной по 27 сентября 1812“, — поразила Наполеона как громовым ударом. Он был приведен ею в чрезвычайное изумление, мгновенно произведшее в нем некоторый род исступления или забвения самого себя. Ровные и спокойные шаги его в эту же минуту переменились в скорые и беспорядочные. Он оглядывается в разные стороны, останавливается, трется, цепенеет, — щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, выдергивает из кармана платок, жмет его в руках и как бы ошибкою кладет в другой карман, потом снова вынимает и снова кладет; далее, сдернув опять с руки перчатку, надевает оную торопливо и повторяет то же несколько раз».