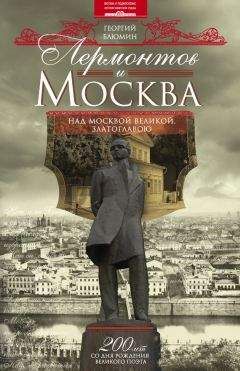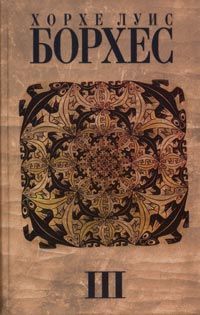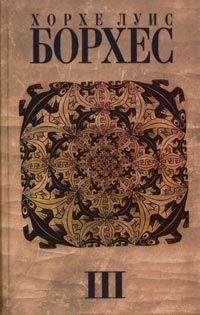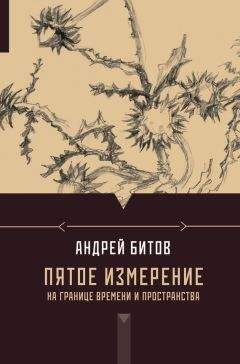Александр Волков - Опасная профессия
Потом мы начали задумываться, почему же очень уж много их, этих косных руководителей, стали понимать, что корень зла не в отдельных людях, или, по крайней мере, не в хозяйственных руководителях низшего звена, а в чем-то ином.
Постепенно публицисты-технологи, как я условно называю себя и других журналистов того времени (сам я после университета еще учился заочно в сельхозтехникуме, стремясь по-настоящему освоить агрономию), становились публицистами-экономистами. Не случайно в ту пору многие защитили диссертации по экономике, и как раз на защите Отто Лациса в Институте народного хозяйства имени Плеханова известный экономист Александр Михайлович Бирман говорил, что многие публицистические статьи в журналах и даже в газетах по глубине анализа отвечают самым строгим требованиям, предъявляемым к научным трудам. Он назвал тогда в качестве примера очерки Юрия Черниченко в «Новом мире» и Светланы Ярмолюк в «Известиях».
Но дело, разумеется, не в диссертациях. Кто-то, надо сказать, так и застрял на стадии «технолога», не в упрек, конечно, будет сказано — и о технологиях нужно писать — но плохо, если застрял на том же уровне понимания причин их неприменения и необходимости «внедрения» сверху. Другие же поднимались на более высокую ступень и становились уже, я бы сказал, публицистами-обществоведами, то есть научились видеть производство и его отдельные пороки в системе всех общественных отношений. (Теперь, кстати, все — либо репортеры, либо «политологи», но это, по-моему, даже шаг назад, сужение взгляда на жизнь). Короче говоря, как раз во время моей работы в «Советской России» начинался, по-моему, новый виток осмысления журналистами окружавших их реальностей.
С Зародовым у меня отношения поначалу не складывались. Он казался мне в сравнении с блестящим Аджубеем слишком осторожным, слишком оглядывающимся и, признаюсь, даже серым. Я сознавал, что у него и у Аджубея возможности разные, но вместе с тем не понимал многого, не понимал, насколько трудно было Зародову приспосабливаться, удерживаться на плаву в те времена, в тех сложных условиях. Опять-таки сказывался мой провинциализм и связанный с ним максимализм. Я просто после очередного спора с главным приходил в отдел и ругался вслух: перестраховщик, боится всего, не хочет трогать острые вопросы, назревшие проблемы, все куда-то звонит, кого- то спрашивает. На заседаниях Совета Министров РСФСР, других совещаниях, где мы бывали порою вместе, на меня неприятно действовало то, как он разговаривал с высокопоставленными лицами республиканского масштаба — с министрами, председателями разных комитетов, партийными работниками. Крупный такой мужик, бывший моряк (поэтому мы его и звали меж собою Костя-капитан) подходит к какому-нибудь плюгавенькому министру и, глядя на него сверху вниз, но стараясь глядеть как бы наоборот, хотя это трудно, весь краснеет и что-нибудь робко спрашивает. А плюгавенький высокомерно, глядя, конечно, не вверх, а куда-нибудь ему на брюхо или ниже, отвечает барским тоном, как нужно поступить, потому что, конечно, Зародов советовался по публикациям.
Есть, кстати, такие амбициозные недомерки, которые, как я заметил, даже рослому человеку умеют подать руку как бы сверху, задирая для этого локоть выше плеча и спуская ладошку под углом вниз. К такому нетрудно приспособиться, если хочешь того.
То есть у меня поначалу образ Зародова складывался если не совсем негативный, то противоречивый. Я постепенно начинал видеть его положительные стороны, его стремление делать в газете что-то интересное. В то же время эта чрезмерная, как мне казалось, осторожность, это виновато красное лицо (я и того не знал, что такая краснота была связана с сердечно-сосудистым заболеванием) раздражали, вызывали досаду. Я наступал на него со своими замыслами, а он, сознавая, что реализовать их сейчас чрезвычайно трудно, но, в общем-то, принимая те аргументы, которые я приводил, и не имея возможности ответить мне «да», опять застенчиво краснел, что еще больше вызывало у меня отрицательные, прямо скажем, эмоции.
Сейчас этого человека нет в живых, и я боюсь оскорбить его память, затронуть его репутацию, нарисовать неправильный образ. Но, наверное, надо рисовать его в динамике, рассказывать так, как я его для себя открывал, и как менялся он сам.
Очень важный, переломный момент в наших отношениях был связан с крупным выступлением газеты о положении в колхозах и совхозах Нечерноземной зоны. А положение было хуже некуда. Самые нищие крестьянские хозяйства находились в то время в центре России, на исконно русских землях. Здесь зарастали кустарником поля, отсюда разбегались люди, здесь были самые дряхлые соломенные крыши, стояли с заколоченными крест-накрест окнами полусгнившие дома. Статья была крупная, она стояла на первой полосе газеты, и ею мы открывали новую рубрику «Вносим на рассмотрение», имея в виду вышестоящие органы, а не только читателей. В статье была таблица, которая отражала состояние экономики колхозов и совхозов этой зоны, все неблагополучие, собственно, катастрофичность их положения, огромные убытки хозяйств и бедность крестьян. Это была просто страшная таблица.
И вот, когда статья уже стояла в полосе, то есть должна была выйти в свет завтра, меня позвал Константин Иванович. Он сказал, что статья очень важная, серьезная, но дать ее в таком виде невозможно, нужно снять самые резкие места. Аргументов не помню, но ясно, что речь могла идти просто о невозможности показать реальную картину крестьянской нищеты, что это будет чуть ли не подрывом советской власти. Он, конечно, не такими словами выражался, просто давал понять, что нам за это крепко попадет. Я ответил, что статью тогда не имеет смысла печатать. Одно из двух — либо тревожный набат, такой, чтобы за голову схватились и руководство, и общественность российская, либо получится писк, который никто не услышит. В разговоре намечался тупик: Зародов стоял на том, что опубликовать статью в предложенном виде невозможно, я же не хотел ничего править. Дошло до того, что я сказал:
— Наверное, вы напрасно позвали меня в эту газету. Видимо, придется положить на стол заявление об уходе.
Он рассердился, закричал:
— Ты меня что, шантажируешь? Ну, и уходи! Что делать, если ничего не хочешь понимать, если у тебя нет никакой политической гибкости!
Я ответил, что это не шантаж, а просто констатация реального положения вещей. Когда меня сюда приглашали, то говорили о возможности работы в хорошей команде — с Зародовым, Черниченко, Егором Яковлевым (в то время заместителем главного), убеждали, что можно будет смело ставить новые вопросы, каких никто не ставил, и я пришел для этого. Если же сие не позволено, если снимается первый же, по сути дела, серьезный, значимый материал, способный привлечь к газете внимание читателей, а власти заставить задуматься над реальной проблемой, то, наверное, я ошибся адресом или ошибся тот, кто меня приглашал.