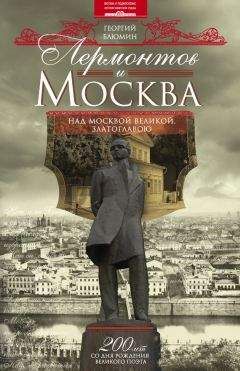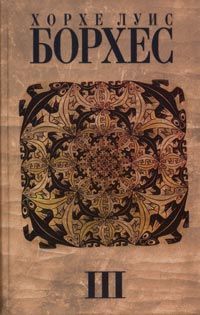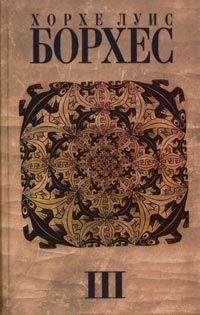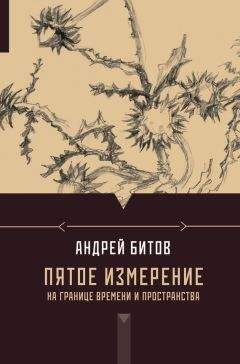Александр Волков - Опасная профессия
— Наверное, вы напрасно позвали меня в эту газету. Видимо, придется положить на стол заявление об уходе.
Он рассердился, закричал:
— Ты меня что, шантажируешь? Ну, и уходи! Что делать, если ничего не хочешь понимать, если у тебя нет никакой политической гибкости!
Я ответил, что это не шантаж, а просто констатация реального положения вещей. Когда меня сюда приглашали, то говорили о возможности работы в хорошей команде — с Зародовым, Черниченко, Егором Яковлевым (в то время заместителем главного), убеждали, что можно будет смело ставить новые вопросы, каких никто не ставил, и я пришел для этого. Если же сие не позволено, если снимается первый же, по сути дела, серьезный, значимый материал, способный привлечь к газете внимание читателей, а власти заставить задуматься над реальной проблемой, то, наверное, я ошибся адресом или ошибся тот, кто меня приглашал.
Мы, собственно поругались, и я ушел из его кабинета с тем, что он статью снимает, потому что я не даю ее сокращать, я же на следующий день подаю заявление об уходе.
Вернулся в отдел, в свой кабинет, рассказываю об этом ребятам. Заходит Егор Яковлев и накидывается на меня: что же это, мол, делаешь с Зародовым, довел его до приступа стенокардии, пришлось коньяком отпаивать. Я, говорит Егор, вошел к вам, а вы даже внимания на меня не обратили, красные оба, злые… И верно, я не помнил, чтобы он заходил. Говорю, хорошо, что у тебя есть чем лечиться, коньячок в запасе держите, а мне еще надо попросить кого- то сбегать за водкой. Короче говоря, не принимаю, сказал я, твоих упреков, потому что я боролся за то, чтобы прошла важная, принципиальная статья, а Зародов боролся за себя, за то, чтобы усидеть в кресле редактора… Сейчас вот опять, вспоминая свои слова, чувствую укол совести.
Через некоторое время раздался телефонный звонок. Константин Иванович просил зайти. Когда я вошел к нему в кабинет, он сразу же сказал твердым голосом человека, который принял решение:
— Вот мое последнее слово: в статье все остается, но таблицу мы снимаем.
Таблицу, в которой весь смысл! Я встал, чтобы уйти, но он остановил:
— Подожди! Мы не совсем ее снимаем, просто ты даешь те же цифры, но в тексте, а не таблицей, потому что в тексте они не так будут бить в глаза. Это мое окончательное решение.
Он шумел, что я его толкаю черт-те на что, у меня, говорил он, один партбилет, двух партбилетов у меня нет, и так рискую… (Про «партбилеты» — это он у кого-то, как сам рассказывал, перенял, почему-то понравилось, говорил сначала вроде в шутку, а потом уже как бы автоматически и всерьез).
Конечно, это был уже приемлемый для меня компромисс, и даже тогда я понимал, что был бы последним идиотом, если бы на него не согласился. Статью мы подписали, на следующий день она вышла, и я, может быть, тоже только уже много позже стал представлять себе, как переживал, наверное, ту ночь Зародов, как он ждал реакции на статью. Сам-то я ничего не ждал, я просто торжествовал свою победу над Зародовым, он для меня был высшей инстанцией…
Мне все время мешает, затормаживает нормальный ход воспоминаний сегодняшнее осмысление событий. Сегодня я все время стремлюсь оправдать Зародова, потому что с позиций теперешнего жизненного опыта вижу, как ему было трудно. Но в то время я был максималистом и его ни в коей мере не оправдывал, в душе не делал никаких уступок. Просто считал недостаточно смелым редактором, невольно сравнивая с Аджубеем, сравнивая, конечно, совершенно неправомерно. Сам же Аджубей как-то пошутил: «Смелый редактор — дурак, информированный — вот это да!»
Реакция на статью последовала и была она довольно неожиданной. Впрочем, я думаю, что не просто под моим напором Зародов согласился на публикацию: он кому-то звонил, с кем-то советовался, что-то такое вызнавал, но все-таки реакция могла быть очень неблагоприятной. Однако получилось иначе. Позвонили один за другим и председатель Совета Министров РСФСР Воронов и член Политбюро ЦК КПСС Полянский, отвечавший в то время уже за сельское хозяйство в масштабе страны, и оба похвалили статью, сказав, что поднят чрезвычайно важный вопрос. Обещали, что это получит поддержку, будут соответствующие решения.
Зародов позвал меня и поздравил с этим выступлением. Он был уже совсем другой, веселый, улыбающийся, немного даже торжественный. И это был переломный момент в наших отношениях. Он стал, я бы сказал, верить в меня, даже заметил как-то, что есть, мол, у тебя чутье на проблемы, которые назрели. Мои друзья, напротив, чаще говорили мне, что слишком забегаю вперед, говорю о том, к восприятию чего люди не созрели и потому не слышат меня. Черт его знает, что верно. В какой-то мере то и другое. О втором я сам думал не раз, когда убеждался, что моя статья, казавшаяся такой актуальной, не получила никакого общественного отклика. Через некоторое время другие журналисты, вернувшиеся к этой проблеме, становились даже популярными. Черт знает…
Здесь я пропустил чрезвычайно важный момент. В «Советской России» я начал работать летом 1964 года, а в октябре, как известно, произошло событие, которое в то время мы неправильно оценили. В октябре был снят со всех своих постов Никита Сергеевич Хрущев. Тогда нам это представлялось событием позитивным. Дело в том, что авторитаризм Хрущева, сначала сравнительно мягкий (в сравнении со сталинским), становился все более нетерпимым — по мере того, как стали валиться из рук дела, Хрущев проявлял все больше своеволия, самодурства. И это было естественно, логично, закономерно в том смысле, что суть системы не изменилась. Остались прежними экономические отношения, более того, несостоятельность их обнаруживалась все отчетливее, поскольку разрушался фундамент, на котором она зиждилась, фундамент репрессий, страха перед ними, просто, можно сказать, перед расстрелами. Хрущев не нашел этому замены, хуже того, и сам начал стрелять, например, в Новочеркасске. От Брежнева и Косыгина, совершивших дворцовый переворот, которому радовались уже потому, что впервые в советской истории удалось, как казалось, демократично отстранить от власти первое лицо в государстве, ждали важных и решительных шагов, прежде всего в экономике.
Газеты в период между октябрем 1964 года и мартом 1965 в большинстве своем очень осторожно высказывались на экономические и управленческие темы. После мартовского пленума ЦК и до сентябрьского тоже еще не все развернулись как следует. Может быть, «Советская Россия» в каком-то смысле была исключением, во всяком случае, я помню, как Лисичкин, в то время возглавлявший сельхозотдел в «Известиях», завидовал тому, что нам удавалось печатать, удивлялся решительности Зародова.