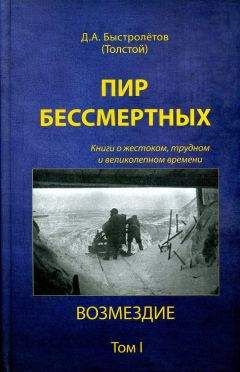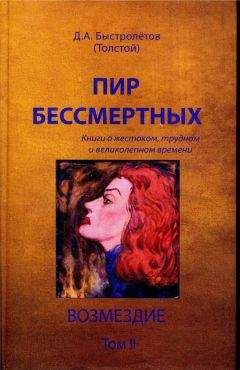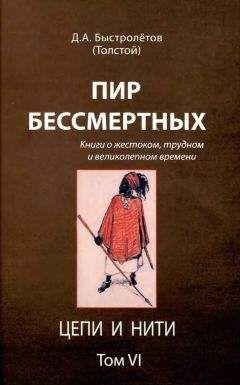Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 3
Вышедший из повиновения мозг продолжал неуклюже и медленно работать — переживать то, что я видел когда-то. Против мой воли, ведь её уже не осталось. Он жевал самостоятельно, вместо неё и вне её.
Прошло ещё полгода. Очередная смена камер. Но мне это было безразлично. Меня в тюрьме уже не было: я путешествовал по Африке…
Глава 6. Возвращение
Возвращение оттуда началось весной пятьдесят первого года, на третьем году сидения в одиночке. Оно происходило медленно и постепенно. Изнемогавший от переутомления мозг выключился и стал исподволь набирать силы. На определённой стадии выздоровления сознание включилось снова. Старый очаг раздражения вспыхнул опять, но был так слаб, что внешние раздражения мало-помалу подавили его.
Они оказались сильнее потому, что ни одно самое страшное воспоминание не может быть страшнее действительности.
Помню, я сижу на табурете в небольшой белой комнате с полками для лекарств, и два человека в белых халатах возятся с моими глазами. Я вижу плохо сквозь коричневую муть, которая, очевидно, плавает внутри глаза и колышется вместе с поворотом головы или движением глазного яблока. При взгляде в окно я вижу, что прутья решётки и переплёт рамы по краю неба окрашены с одной стороны в фиолетово-синий, а с другой — в красный цвета. Глаза у меня сильно болят, боль чувствуется от лёгкого давления на глазное яблоко.
— Дайте дионин, Иван Петрович.
— Слушаю, доктор.
Они капают в мои глаза жидкость, и я чувствую, что по ним как будто проводят ножом. Мычу от боли.
— Он хорошо реагирует, доктор.
— Да, последнее время.
— Идёт на поправку?
— Трудно сказать. Глаукома у него прогрессирует. Как бы не пришлось делать энуклеацию.
— Обоих глаз, доктор?
— Конечно.
Я тупо слушаю. Что-то доходит до меня. Как из-за стены. Глаукома… Энуклеация.
«Что такое энуклеация? — тупо думаю я. — Знакомое слово. Энуклеация… Энуклеация… Нет, всё забыл…»
Солдаты ведут меня под руки до камеры. Сквозь коричневые хлопья, медленно колеблющиеся внутри глаза, я различаю двор, траву, загородки для прогулок, деревья с молодой листвой. Меня тащат куда-то наверх и сажают в камере на удобный табурет.
— Ешьте. Принесли обед. Вас перевели на больничное питание.
Я едва узнаю кусок жареной свинины на просяной каше. Глаза невыносимо болят, но я чувствую голод. Отыскиваю ложку и начинаю есть.
«Что такое энуклеация?»
Помню тёплый солнечный день в спецобъекте. Я чувствую себя лучше. Солдаты под руки ведут меня, вводят в прогулочный дворик и усаживают на стул. Я сижу неподвижно — отвык двигаться. В маленькой прогулочной загородке чувствую себя потерянным, как-то неудобно — не то тоскливо, не то страшно. Иногда поднимаю голову и смотрю на небо. Бурые хлопья в глазах медленно плывут книзу, небо кажется пятнистым. Это неприятно. В полумраке серой камеры хлопья совсем не видны. И вообще в камере теснее, уютнее. Я неожиданно замечаю, что поле зрения с одной стороны окрашено в слабо-зеленоватый, с другой — в красноватый.
— Что у меня с глазами, — бормочу я себе. — Болят. Плохо видят. Что со мной сталось?
Голова пока что работает плохо. Но уже работает. Я вспоминаю слова врача. Что-то соображаю.
— У меня глаукома. И ещё что-то…
Из серой паутины, опутавшей мозг, неожиданно всплывает странное, непонятное слово.
И вдруг я вспоминаю, что оно означает: энуклеация — это хирургическое удаление глазных яблок. Их вырезают скальпелем из глазниц.
Само собой разумеется, что в течение второго года заключения в спецобъекте я не лежал в бессознательном состоянии, я ходил, ел и, конечно, о чём-то думал. Но мышление к тому времени стало лишённым эмоций и плоским, и поэтому эти месяцы теперь, много лет спустя, ощущаются как провал в сознании. Однако выздоровление уже подготовлялось исподволь, и не случайно, что первым воспоминанием с этой стороны оказался приём в амбулатории и разговор о глаукоме. Сообразив, что мне грозит слепота и врач собирается удалить оба глаза, я вдруг как бы проснулся: возникли острейшие эмоции! Получился как бы размашистый и свирепый удар плетью: полудохлая кляча рванулась вперёд и вынесла колымагу из ухаба.
Теперь разом вернулась присущая мне воля к жизни.
— Нет, нет, — бормотал я себе. — Глаза мне нужны самому… Как в заключении жить без глаз? Затопчут… Заклюют… В заключении без глаз беда: здесь беспомощность хуже смерти!
Меня охватил мощный порыв протеста, жажда жить, желание бороться за своё здоровье, решимость во что бы то ни стало всё преодолеть и опять победить. В мозгу вспыхнул новый сильнейший очаг раздражения, который окончательно подавил затухающий первый: болезненная игра в воспоминания кончилась, мозг получил новую пищу для работы, и я мало-помалу окончательно высвободился из-под власти принудительного мышления.
Моя камера, вероятно, когда-то являлась гостиничным номером для богатых богомольцев. В большое окно при советской власти вставили решётку, но сквозь неё в камеру упорно лезла свежая, пахучая листва. Воздуха было много, места — ещё больше. Я стал два раза в день обтираться холодной водой и раз десять устраивал себе сеансы гимнастических упражнений. Однажды совершенно неожиданно сквозь дверную форточку мне просунули пачку книг. Я чуть не расцеловал их! Конечно, читать было нельзя, но сам вид кипы книг уже успокаивал и радовал. Я ходил по паркетному полу, лаская книгу в руке, и наслаждался! И тем временем начал наблюдать за своим здоровьем, то есть приступил к подсчёту потерь, — так же как сделал в камере Лефортовской тюрьмы после окончания следствия.
По пульсу определил у себя очень значительное повышение артериального давления — далеко за двести. Отсюда боль в голове и неустойчивость походки. Отчасти отсюда же глаукома. Она наблюдается не у всех гипертоников, и в моём случае она — продукт трёх слагаемых: ударов по голове на допросах, нервного расстройства от десяти лет в лагере и двух в спецобъекте и перенапряжения от писания в голове книги. Но это не всё: появилась агнозия, и я принялся подсчитывать, через сколько дней случается заметный мне самому эпизод неузнавания надзирателя или миски с супом и непонимания, чего от меня хотят. Выяснилось, что такие явления случаются через день-два. Я засёк среднюю цифру и стал наблюдать — не появится ли тенденция к улучшению. Раза два-три заметил, что эпизод повторился на третий или четвёртый день — и воспрянул духом! Тут выявил ещё один симптом: потеря правильной ориентации в пространстве. Вечером, когда зажигался свет, через окно в камеру влетали комары, и они-то и послужили мне подопытными животными. Дело в том, что комары летят по прямой линии и медленно, а не зигзагообразно и быстро, как мухи, например. Вечером комарик влетит и начинает золотой точкой прямолинейно двигаться по продолговатой комнате. Я стану так, чтобы источник света был за моей головой, и хорошо вижу медленно двигающуюся точку. А поймать её не могу, не понимаю, далеко она или близко и куда нужно махать рукой, чтобы сбить комара. Где-то за стенами спецобъекта помещался пионерский лагерь, и через окно, бывало, то и дело доносились весёлые крики детей и распоряжения воспитательниц: «Вова, одень куртку, уже прохладно!», «Слава, доешь бутерброд, потом играй!» А я до пота охотился за комарами, засекал частоту промахов и с замиранием сердца следил за тенденцией, всё ждал, когда стану целиться лучше. В прогулочном дворике сначала научился ползать, потом ходить и наконец маршировать. Украдкой несколько раз заглянул в книги. Много читать было нельзя, но сознание того, что я уже читаю, меня сильно успокаивало. Иногда, в виде опыта, я осторожно угощал себя мозговым книгописательством, но так, чтобы не переутомить голову: мне хотелось понаблюдать над постепенным угасанием вневолевого мышления. Когда прошла неделя-другая без мысли о книге, тогда я радостно и счастливо дал себе короткий сеанс писания в голове — по своей воле и лишь столько, сколько хочу.