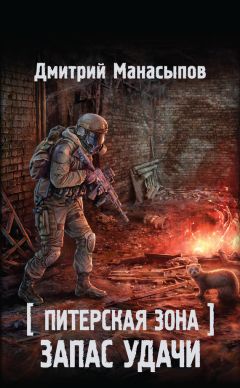Алла Гербер - Мама и папа
Есть люди, которым легко брать в долг, — папа, например, одалживал весело. С его размахом жить, тратить, угощать ему вечно ни на что не хватало. Это был их постоянный спор с мамой, доходящий до серьезных конфликтов (после смерти папы мы еще долго отдавали его "веселые" долги, которые брались для наших общих радостей).
Мама тоже, как сейчас говорят, "не умела жить", но и занимать не умела. Она не считала, не экономила копейки — жили как жили, а когда не на что было жить — тоже почему-то жили. Помню (папы уже не было в живых), к нам зашел мой друг — журналист из Польши, аккредитованный от своей газеты на три года в Москву. Он готовился к приезду жены и пришел к маме поговорить на хозяйственные темы — хозяйкой дома была она.
"Фанья Яковлевна, — вкрадчиво, осторожно, как бы извиняясь за свое вторжение в "государственные" тайны частной жизни, начал он, — Фанья Яковлевна, скажьите, пожалуйста, как вы строите свой домашний бьюджет?"
"Что строю?" — переспросила мама, сморщив от напряжения лоб, что позволяла себе крайне редко: во-первых, морщины, во-вторых, вообще некрасиво...
Юрек достал из папки аккуратную книжечку в золотистом переплете с таким же аккуратным золотым карандашиком и, открыв на положенной страничке, заложенной золотым шнурком, стал медленно, по складам, зачитывать вопросы, подготовленные его бережливой женой: "Скажьите, пожалуйста, сколько рублей в день вы расходуете на... молоко, масло, крупу, муку, сыр?.."
Мама смотрела на него ясными синими глазами, в которых было столько вопросов и столько ответов, что Юреку все равно их никогда не понять. Но не перебивала. Выслушав до конца длинный список, где ничего не было забыто — ни чай, ни хлеб, ни сахар, ни картошка, — улыбнулась и спокойно сказала: "Не знаю, Юрек, выкручиваемся как-то..."
Ее сберегательную книжку я храню как завет внукам и правнукам: там никогда не было больше семидесяти рублей, а в наследство она оставила нам... три рубля. Но вазу так никогда и не продала, потому что ваза была не материальной, а духовной ценностью. И далеко от дома ваза была нашим ДОМОМ, который она спасала, как спасает солдат последнюю пядь родной земли.
Как же нескоро я научилась понимать эту одухотворенную человеком ценность вещи! Родители воспитали во мне спокойную независимость от сбережений и накоплений. И хорошо. Спасибо им за это! Но вещь, которая душа дома, узелок в его ткани, кирпич в его кладке, петля в его связке, — эту вещь надо беречь. Она держит дом. Она — его зашифрованная память, простейший, но незаменимый организм его флоры и фауны. Отдайте ее другому — и она погибнет.
Помню, как однажды мы весело спускались с гор с охапками ало-розовых горных пионов. Мы были молоды, легкомысленны и безответственны. Уже внизу к нам подошла пожилая женщина в белой панамке и очень вежливо сказала: "Простите, молодые люди, но вы убийцы". Мы захохотали. Мы предложили бабушке "идти своей дорогой..." Она посмотрела на нас, как на больных, которые не знают, что их болезнь неизлечима. В ее глазах не было презрения, скорее — сострадание. Мы на полуслове осеклись, даже, кажется, пытались извиниться. "Я не в обиде, — сказала она. — И вам не надо передо мной извиняться. Но только там, где вы сорвали эти цветы, они больше никогда не вырастут, а в ваших руках очень быстро завянут". Прошло полчаса, и роскошные пионы буквально на глазах выцвели, высохли... Стало страшно.
С детства помню бронзовую люстру. Она свисала с потолка на длинных, заплетенных в тяжелые косы цепях, на которых покоилась плоская тарелка-клумба, усаженная по бокам свечками, спрятанными в бутонах оранжево-красных, из тончайшего венецианского стекла плафонов. Во время бомбежек люстра раскачивалась и красные бутоны опадали, покрывая пол мелкими осколками ее лепестков. Но приходил отбой — и затихала, обретая покой, много чего повидавшая на своем веку, все еще красивая люстра. Осиротевшую, с потухшими свечами, наполовину разбитыми фонариками, мы, уезжая, оставили ее охранять дом, держать на своих тяжелых цепях его пошатнувшуюся крышу. Когда мы вернулись, в доме мало что осталось, но люстра, потерявшая былой блеск (перед праздниками мама всегда начищала ее зубным порошком), расплескавшая свой свет (как же она горела, когда на ней зажигались все свечи и все лампочки!), — люстра, чуть покачиваясь на согнутых цепях, встретила нас, как встречает собака своих хозяев, надолго оставивших ее сторожить дом.
После смерти отца мы с мамой переехали на новую квартиру. Как и многие мои сверстники, верная ежеминутности моды, требованиям не вечности, а дня, я подло предала нашу старую люстру. Зачем она нам теперь, тяжелая, неповоротливая, в квартире с низкими потолками, где она, такая, не предусмотрена ни типовым проектом, ни условиями новой жизни? Уставшая от потерь и перемен, мама, не выдержав моего натиска, согласилась, и люстра осталась у новых хозяев нашей бывшей комнаты в коммуналке.
"Красивая штука, — сказали они, — дорогая, наверно, но уж больно старая".
Я часто возвращалась в наш переулок, затерявшийся в лабиринте Харитоньевских тупиков старой Москвы, где, по преданиям, гулял когда-то Пушкин, а вот теперь, не прижившаяся на шумном новом проспекте, бродила в поисках прошлого какая-то я... И всякий раз видела в окне одинокую люстру, которая освещала мое детство, дарила мне фейерверки огня и света, а теперь, брошенная, обременительная для чужих людей, покорно ждала, когда ее окончательно выбросят из жизни, в которой она со своей поистине светлой памятью оказалась никому не нужна.
И я не выдержала, я вернулась за ней. Новые жильцы, люди молодые, так и не успевшие разобраться в истинной стоимости "бандуры", как они ее называли, отдали люстру с удовольствием: "И куда вы ее? Только мешать будет..."
Она не мешала — она помогала. Часто по вечерам, когда не стало мамы, она высвечивала в памяти любимые с детства предметы, которые пользовались когда-то ее теплом, а теперь проявлялись лучиками-пестиками оголенных, без красных бутонов, свечей. И возникал диван с разноцветными подушками. А над диваном в прямоугольных и овальных рамках — молодые лица моих родителей: с доверчивыми глазами, с благородным спокойствием и немного показной — для птички, которая вылетала в этот момент из щели аппарата всем известного в Киеве фотографа, — улыбчивой сдержанностью. И профиль красавицы бабушки с немыслимыми валунами на голове и роскошным корсетным бюстом. И благородный фас голубоглазого химика дедушки Яшуни — так в семье называли маминого отца Якова. И стянутое густой седой бородой, жесткое, волевое лицо мельника Хаима. И тихое, к нему обращенное, навек отдавшее ему свою женственность и когда-то буйную южную красоту лицо бабушки Фанни... Я никогда не увижу другой ее фотографии, которую, не исключено, сделал на память расторопный немецкий офицер, когда ее, грузную старуху, которая уже не могла сама передвигаться, немцы привязали к телеге и поволокли по Дерибасовской в гетто. А за телегой бежали ее дочери — две папины сестры, которые остались в Одессе, потому что не могли бросить мать. А за ними — мои двоюродные братья, чемпионы математических олимпиад, победители шахматных турниров, два моих одаренных брата, которых мне всегда приводили в пример. Все они погибли в гетто, куда бабушку, как рассказывают очевидцы, "не дотянули" — она умерла в пути. Обычно в память об умерших свечи зажигают, но на нашей люстре в память о них одна свеча погасла навсегда.