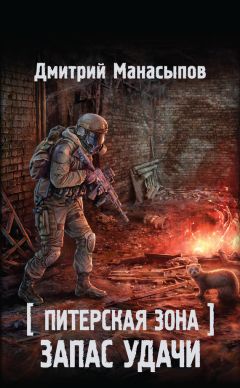Алла Гербер - Мама и папа
Голос спас отца от смерти. Метр девяносто роста и сорок пять килограммов веса — какие уж тут песни! А он пел таким же измученным людям, как он сам — "Когда ж домой товарищ мой вернется... любимый город другу улыбнется..." И вернулся, но петь не мог — голос пропал, и я никогда не смогу его услышать: в моем детстве не было магнитофонов. Но и сейчас засыпаю под те колыбельные, которые, сдерживая силу своего могучего голоса, напевал мне он. И теперь в бессонные ночи я сама себе напеваю: "Полюшко-поле, полюшко — широко поле... едут да по полю герои, эх, да Красной Армии герои..." И всякий раз плачу, потому что папа пел эту походную отрядную песню печально, задумчиво, как будто представлял себе тех героев, которые полегли на том полюшке-поле, заснули на нем вечным сном...
Мой маленький сын вырос под его любимую, которую пела ему потом я: "Спят медведи и слоны, дяди спят и тети, все вокруг спать должны, но... не на работе". Смешно, но, может, эта моя настойчивая, из вечера в вечер просьба "не спать на работе" вызвала у сына чисто детский протест, потому что и по сей день он, бедняжка, любит спать как раз в то время, когда по расписанию положено работать...
Звуки дома... Половицы не скрипели, ставни не стучали, мыши не скреблись... Но были другие звуки, которые тоже — дом. У каждого они свои. Приглушенные ночные голоса в соседней комнате, когда считалось, что я сплю и не слышу, ЧТО они говорят. В этих ночных разговорах я угадывала тревогу, которая проходила или скрывалась днем. Слышала слова, которые они доверяли только ночи. В них была растерянность, страх перед самой войной, так, уже совсем приглушенной, тревога вселилась в дом в конце сороковых... Но наутро все забывалось — утренние звуки были веселые звуки. И возникал тот самый мышиный шорох и скрип половиц, под которые медленно и чинно сходили со страниц капитаны, и каждый был отважный, каждый знаменит... По утрам тот, кто был "поленом", становился "мальчишкой, замечательным парнишкой...", а заколдованный злой Звездный мальчик превращался в конце концов в доброго... По утрам черная тарелка репродуктора призывала закаляться, шагать левой и правой, улетать вместе с героями-пилотами в океан голубой высоты. И та же тарелка сотрясалась от разрывающих ее первых взрывов войны, от всенародного стона-плача — вставать на смертный бой! Ночью в своей комнате я чувствовала себя выброшенной на необитаемый, залитый лунным белым светом остров. Почему-то казалось, что комната совсем пустая — только я, спрятанная за белой сеткой кровати, и репродуктор, ставший вдруг похожим на громадную черную медузу. Я плакала от страха и с ужасом ждала, когда тарелка ударит приказом-сводкой, завоет воздушной тревогой.
Еще недавно — "Дай, Джим, на счастье лапу мне..." Еще вчера — "Здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой..." И не думалось, не понималось, что быть живым — чудо. Пришло время, когда нормой становилась не жизнь, а смерть, и звуки, которые были жизнью дома, надолго покинули его.
Война унесла старые письма и записки "в несколько строчек", потушила костер, который до утра "светил в тумане" на воскресных дачных до глубокой ночи с уймой гостей посиделках, и обратила в сказку, в еще не открытую планету из другой галактики и раньше загадочные Сочи, где все дни и ночи... Замолчал наш скрипучий патефон, и только после войны его раскрутил пришелец из другой жизни — таинственный лиловый негр, который подавал прекрасной незнакомке нечто совсем странное, на телогрейку мало похожее, но, судя по всему, ее заменяющее, под названием — манто. И пошли-поплыли звуки из "бананово-лимонного Сингапура", из синего и далекого океана, из подлунного мира, где болеет музыка, а на прощальный ужин приглашают... тишину.
Но сколько иных звуков, иных песен вошло в мою жизнь, прежде чем черная медуза превратилась в радиоприемник, вернувший нам школьные вальсы, часы свиданий, ожиданий, упоительных мирных разлук. Прошло совсем немного лет, и дом снова затих, застонал по ночам от подлинной, а не эстрадной тоски, замер в ожидании писем, и не сокращались большие расстояния (поверьте, нет) от того, что где-то далеко отец пел про любимый город, который спал спокойно, но не было покоя в нашем сне. И снова ожил, зашумел, скинув годы, дом, когда отец вернулся, а вместе с ним — серебристый звон балетно изогнутых, дымчато-миражных, как стая лебедей в "Лебедином озере", хрустальных бабушкиных бокалов.
* * *
ДОМ — это не только звуки, но и вещи, одухотворенные людьми. Вещи, которые впитали в себя суть и дух тех, кто держал их в руках, кто на них смотрел, кто их хранил и любил. Вещь, которая обогащает душу, но при этом не нарушает честную пустоту кармана, — это тоже дом, в котором мы жили.
Немцы были уже совсем рядом, под Москвой, тянуть с отъездом больше было нельзя — отец настаивал, чтобы мы с мамой немедленно эвакуировались (сам же оставался с заводом). Времени на сборы не было, мама набила в чемодан все, что оказалось под рукой, а в корзину, еще совсем недавно привезенную из Киева с клубникой, уложила, как грудного, закутанного для гулянья ребенка, реликвию дома, всеобщую любимицу, тяжелую от рождения, но с годами точно еще более отяжелевшую вазу-лодку, подаренную еще моей прабабушкой на мамину свадьбу. Товарищ отца, который пришел за нами (папа смог приехать только на вокзал), посмотрел на маму, мягко говоря, с недоумением. "Это наш дом, — сказала мама. — Пока она с нами — мы дома".
В Ташкенте, где мы прожили два года, мама устроилась на завод разнорабочей, таскала мешки с опилками, чтобы получать рабочую карточку. Бабушка делала из патоки конфеты-подушечки, и мы продавали их на Алайском базаре. В школе, по болезни, мне давали дополнительную порцию жмыховой каши (я уже давно из довоенного "жиртреста" превратилась в "Алку-палку"). Все, что можно было продать, мы продали. Все — это два маминых отреза, подаренных папой ко дню ее рождения, два ярких, цветастых крепдешиновых полотнища, о которых мама, не избалованная красивыми вещами, давно мечтала и чисто по-женски, не взяв самого необходимого — например, теплого пальто, — их все-таки в последнюю минуту засунула в ту же "клубничную" корзину. И еще — мои лакированные туфельки, предмет зависти всего нашего двора, присланные какой-то мифической троюродной тетей Надей — манекенщицей из Парижа. Но вазу мама не тронула. Когда я заболела малярией, мама по совместительству устроилась ночным вахтером. Но ваза стояла. Помню день, когда она совсем было решилась нести ее на барахолку. Тщательно закутала, как тогда, в день отъезда из Москвы, с нежностью уложила в ту же корзину, а потом решительно собралась куда-то, оставив вазу на своем месте. Она пошла к дальнему родственнику — занять деньги, чего не делала никогда.