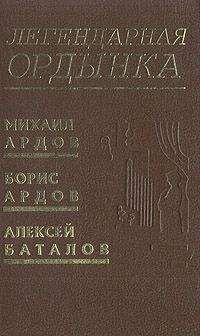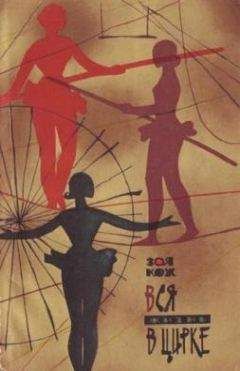Борис Ардов - Table-Talks на Ордынке
Как известно, первая существенная победа во Второй Мировой войне была увенчана отступлением немцев от Москвы. Происходило это зимой, во время сильных морозов. Двигаясь с нашими частями по следу отступающих немцев, Темин обратил внимание на то, что в некоторых живописных и вполне пригодных для фотографирования местах для полноты картины не хватает вражеских трупов. А в иных местах этих трупов много, но там эффектных кадров снять невозможно. Так как в его распоряжении был небольшой грузовик, Темин погрузил в кузов десятка два убитых немцев и возил их с собою. Благо, повторяю, были сильные морозы. И вот когда фотограф находил подходящий пейзаж — разрушенные дома, подбитые танки и пр., он с помощью солдат раскладывал вражеские трупы, создавая «фотокомпозиции».
Благодаря своему «жестокому профессионализму» в самом конце войны Василий Темин едва не лишился жизни. Когда советские войска ворвались в Берлин, он сфотографировал красный флаг над Рейхстагом и бросился на ближайший аэродром, чтобы поскорее доставить этот снимок в «Правду». Однако, там стоял только один самолет — личный, принадлежащий маршалу Жукову. Тогда Темин объявил:
— Товарищ маршал приказал мне на этом самолете немедленно лететь в Москву.
Это было сказано столь безапелляционно, что ему поверили, и он улетел. Через несколько часов, как на грех, самолет понадобился Жукову. Ему докладывают:
— Самолет по вашему приказанию улетел в Москву.
— Как!? — удивился маршал, — По какому приказанию?
— На аэродром прибыл майор Темин и объявил, что вы ему приказали на своем самолете лететь в Москву.
Жуков, славившийся в частности и своей жестокостью, отдал приказ:
— Этого майора найти, арестовать, отдать под трибунал и расстрелять.
А Темин добрался до Москвы, и к утру вышел номер «Правды» с его снимком. Нагрузивши маршальский самолет газетами, фотограф прилетел обратно в Германию и тут же был арестован. Его друзья принялись хлопотать, кто-то дошел до самого Жукова, и маршалу был показан свежий номер «Правды» с фотоснимком Темина. В конце концов, командующий сменил гнев на милость.
После войны Темин продолжал работать в редакции «Правды». Был он, повторяю, пьяницей, и в конце сороковых с ним произошло трагикомическое приключение. Он был в командировке в Ленинграде, и там в компании познакомился с молодой женщиной, которая ему очень понравилась. Начался бурный роман, но все это с неумеренными возлияниями. Через несколько дней Темина, который все это время толком те протрезвлялся, отвели в ЗАГС и с этой дамой расписали. После этого начались уже свадебные попойки, они продолжались еще несколько дней. И вот, наконец, Темин протрезвел. Произошло это в какое-то утро. Он очнулся в гостиничном номере, с ним в кровати лежала женщина, у которой был совершенно голый череп. А рядом на столике находился ее парик. Темин не без труда восстановил в памяти все происходившее с ним в последние дни… Тут он потихоньку встал, оделся, собрался и ушел из номера… Затем «молодой муж» помчался на вокзал и первым же поездом укатил в Москву…
Но на этом история, разумеется, не кончилась. Поскольку Темин состоял в «зарегистриро-ванном браке», родственники «молодой жены» написали жалобу главному редактору «Правды», каковым в те годы был П. Н. Поспелов. Это был деятель, «поваренный в чистках, как соль». Достаточно сказать, что он был редактором всех издаваемых сочинений тогда еще здравству-ющего Сталина. Поспелов немедленно вызвал Темина к себе в кабинет, показал ему письмо от «родни» из Ленинграда и потребовал объяснить свое «аморальное поведение». Фотограф по своему обыкновению держался уверенно.
— А представьте себе, — сказал он, — товарищ главный редактор, вы просыпаетесь утром с молодой женой и видите, что она — лысая…
— Как? — переспросил Поспелов. — Совсем лысая?
— Совсем. Вот так она лежит, а вот так парик — отдельно…
— Как? Совсем отдельно?
— Совсем отдельно.
— Вон отсюда! — заорал Поспелов и затопал ногами. Но сверх того никакого взыскания Темину не последовало.
Во время войны в Москве открылись, так называемые, коммерческие буфеты, где торговали свободно — без карточек, и там продавалась в разлив водка. Один из таких буфетов находился в Третьяковской галерее. Разумеется, туда устремились жители ближайших кварталов и в частности кое-кто из обитателей писательского дома в Лаврушенском переулке. Часто заглядывали в этот буфет истопники, слесари и дворники. Лев Никулин вспоминал, как один из них жаловался:
— Ну, хоть бы открыли они буфет при входе… А то ведь двадцать залов надо пробежать, чтобы сто грамм выпить… И обратно идешь, а по стенам эти хари — весь хмель вышибает…
Лифтерша писательского дома говорила подруге:
— Ну, а муж у меня какой добытчик? Три раза на дню в Третьяковку бегает…
Как известно, среди множества подхалимских титулов и наименований, которые были присвоены Сталину был и такой — «корифей всех наук». Если не ошибаюсь читинский секретарь обкома партии в своем официальном выступлении объявил любимого вождя — «величайшим кафетерием науки».
После выхода из печати работы Сталина «О марксизме в языкознании» начались общеобязательные славословия. Тогдашний руководитель комсомола Н. А. Михайлов в одном из выступлений говорил:
— Это — гениальная работа… Это — великий труд. Это — лебединая песнь марксизма…
Во второй половине пятидесятых годов этот же самый Михайлов занял пост министра культуры. Ему как-то пришлось проводить собрание сотрудников Московской консерватории, где обсуждалось скандальное дело: несколько музыкантов были уличены в гомосексуализме. В своей обличительной речи министр в частности сказал:
— Эти мерзкие люди занимались своими гнусными делами здесь, в стенах консерватории, носящей святое имя Петра Ильича Чайковского.
В зале раздался смех. Михайлов опешил — он никак не мог понять причину подобной реакции. Тут к министру приблизился референт и шепотом дал соответствующее разъяснение.
В те же годы Ардову пришлось выступать в каком-то областном Доме офицеров. Было это в старом российском губернском городе — вроде Костромы или Калуги. «Дом офицеров» оказался старым барским особняком, там был просторный вестибюль, широкая лестница, а в нишах стояли копии античных скульптур. Однако всем этим мраморным фигурам зеленой масляной краской были пририсованы трусы и бюстгальтеры.
Дама, которая когда-то преподавала в Алма-Атинском университете, рассказала такую поразительную историю. В какой-то послевоенный год был «целевой набор» каракалпаков. В подобных случаях требования к абитуриентам той или иной национальности снижались до минимума, то есть стоило юноше или девушке сказать экзаменатору хоть что-то вразумительное, как тут же выставлялась высокая оценка. Шли испытания по английскому языку. Преподаватель попросил одного из поступающих каракалпаков посчитать по-английски от одного до десяти. Юноша стал считать, но на каком-то совершенно непонятном наречии. Его спросили: