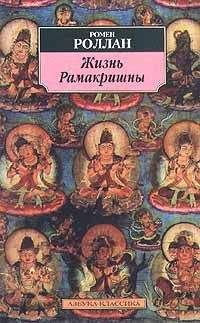Ромен Роллан - Жизнь Микеланджело
Расе non si trova se non ne boschi.[374]
И, вернувшись в Рим, восьмидесятидвухлетний старик пишет прекрасное стихотворение, где воспевает природу и сельскую жизнь, противопоставляя ее обману и лжи городов. Это было его последнее поэтическое произведение, а дышит оно юношеской свежестью.[375]
Однако в природе, как и в искусстве и в любви, он искал бога, к которому с каждым днем приближался все больше. Он всегда был верующим. Знал цену священникам и монахам, святошам и ханжам и при случае жестоко их высмеивал,[376] но в своей вере, по-видимому, ни разу не усомнился. Когда болели и умирали отец и братья, он прежде всего осведомлялся, приобщились ли они святых таинств.[377] Он верил в чудодейственную силу молитвы, в то, что она «помогает лучше всяких лекарств»,[378] верил, что молитвам он обязан всем хорошим, что с ним случилось, что это они отвращают от него все дурное. В своем почти отшельническом существовании он даже доходил до припадков религиозного экстаза. Сохранилось описание одного из таких случаев – рассказ современника: герой Систины один в своем саду в Риме молится ночью, обращая к звездному небу горестный и восторженный взгляд.[379]
Неправильно мнение,[380] будто верующий Микеланджело был равнодушен к культу святых и мадонны. Более чем странно изображать протестантом человека, посвятившего последние двадцать лет своей жизни постройке храма апостолу Петру и до самой смерти работавшего над статуей этого святого. Не следует также забывать, что художник неоднократно собирался в дальние паломничества: в 1545 г. – в Сант-Яго-ди-Компостелла, в 1556 г. – в Лоретто, и состоял в братстве св. Иоанна. Но верно то, что, как всякий великий христианин, он жил во Христе и умер во Христе.[381] «Я живу бедняком во Христе», – писал он отцу еще в 1512 г., а умирая, просил, чтобы ему напомнили о страданиях Христовых. Со времени его дружбы с Витторией Колонна и особенно после ее смерти вера Микеланджело становится все более неистовой. Кисть его и резец служат теперь почти безраздельно прославлению страстей господних,[382] а поэзия погружается в бездну мистицизма. Он отрекается от искусства и ищет прибежища в широко раскрытых объятиях распятого Христа.
Жизнь моя на утлом челне достигла по бурному морю последней пристани, где, сойдя на берег, дают отчет во всех своих добрых и злых делах. И понимаю я теперь, что заблуждением была обманчивая страсть к искусству, которому я поклонялся как кумиру и владыке. Вижу ясно, что желания человеческие даны человеку на гибель. Любовные мечты, тщеславные и светлые надежды, что они теперь, когда мне суждено предстать перед двумя смертями! Одна смерть неизбежна, но и другая мне грозит. И ни кисть, ни резец не успокаивают более душу, обращенную к любви божественной, раскинувшей руки на кресте, дабы принять нас в свое лоно.[383]
* * *Но самым чистым цветком, взращенным верою и страданием в этом старом, измученном сердце, было святое милосердие.
Микеланджело, которого враги обвиняли в скупости,[384] всю жизнь осыпал благодеяниями известных и не известных ему бедняков. Мало того, что он трогательно заботился о своих старых слугах и слугах своего отца, – о некой Моне Маргарите, которую он приютил у себя после смерти старика Буонарроти и «горевал о ней, как о родной сестре»,[385] когда она умерла; о скромном плотнике, ставившем леса в Сикстинской капелле, дочери которого он дал приданое[386]… Он постоянно помогал бедным, особенно бедным, которые стыдились просить. Он любил приобщить к своим добрым делам племянника и племянницу, надеясь, что они и сами начнут помогать нуждающимся, но запрещал им называть свое имя, считая, что милостыня должна твориться втайне.[387] «Он предпочитал делать благо, чем казаться благодетелем».[388] С удивительной чуткостью он заботился о судьбе девушек-бесприданниц и старался, оставаясь неизвестным, передать им небольшую сумму денег, чтобы они могли выйти замуж или удалиться в монастырь.
«Прошу тебя узнать, нет ли какого-нибудь бедного и почтенного человека, дочь которого надо выдать замуж или поместить в монастырь, – пишет он племяннику. – («Я говорю о тех, – добавляет он, – кто нуждается, но не пойдет просить».) Передай ему деньги, которые я тебе посылаю, но только тайно; и смотри, чтобы тебя не обманули…»[389]
В другом письме он пишет:
«Сообщи мне, знаешь ли ты еще какого-нибудь сильно нуждающегося почтенного человека, у которого была бы дочь на выданье; я бы охотно ему помог ради спасения своей души».[390]
Эпилог
Смерть
…Et l'osteria
Е morte…[391]
Долгожданная и все медлившая прийти к нему смерть -
C'a miseri la morte è pigra e tardi…[392]
наконец, пожаловала.
Болезни не щадили Микеланджело, несмотря на крепкий его организм и почти аскетический образ жизни. Он так и не оправился от двух приступов злокачественной лихорадки, которые перенес в 1544 и 1546 гг., а камни в почках,[393] подагра[394] и другие недуги окончательно подорвали его силы. В стихотворении, относящемся к последним годам жизни, он с печальной иронией живописует свое жалкое тело, подточенное старческими немощами:
Как заключенная в кору сердцевина дерева, я живу в одиночестве и тоске… Кожа обвисла вкруг костей, точно мешок, и голос мой доносится оттуда, словно жужжание пойманной осы… Зубы во рту ходят, как клавиши… Лицо, как у пугала огородного… В ушах стоит звон: одно ухо паук заткал паутиной, в другом всю ночь напролет стрекочет сверчок… Надсадный, хриплый кашель не дает мне уснуть… Вот к чему привело меня искусство, даровавшее мне славу… Жалкая развалина, я рассыплюсь на части, если смерть не поспешит ко мне на помощь… Неустанные труды меня скрючили, иссушили, измолотили, и ждет меня постоялый двор – смерть![395]
«Дорогой мессер Джорджо, – пишет он Вазари в июне 1555 г., – по моему почерку Вы поймете, что час мой близок…».[396]
Вазари, навестивший его весной 1560 г., нашел, что учитель сильно одряхлел. Микеланджело уже мало выходил и почти перестал спать – по всему было видно, что долго он не протянет. По мере того как убывали силы, он смягчался душой и становился слезлив.
«Я навестил нашего великого Микеланджело, – пишет Вазари, – он меня не ждал и взволновался, как отец, обретший потерянного сына: бросился меня обнимать и, плача от умиления (laorymando per dolcezza), без конца целовал».[397]