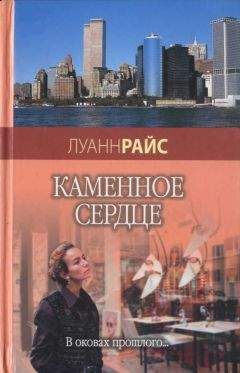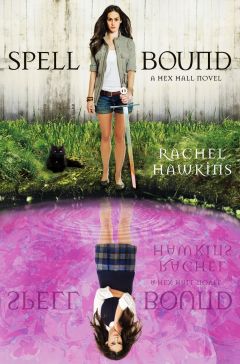Мария Белкина - Скрещение судеб
А Марина Ивановна целый день будет носится из погреба на кухню, из кухни в погреб, потом на террасу, потом обратно на кухню, забывая, за чем шла, останавливаясь вдруг на пол пути. В погребе уже остались только островки снега, и в них осторожно вставляются кастрюли, банки, склянки. Все прокисает, ничего нельзя держать в помещении. На кухне опять коптила керосинка, Марина Ивановна всегда упускает керосинку. Каждый день три раза в день надо накормить Сергея Яковлевича и Мура, и каждый день три раза в день семья (за исключением Али, она на работе в городе), усаживается за стол на террасе. А потом мытье посуды. «Безумная жара, которую не замечаю, ручьи пота и слез в посудный таз…» А потом, когда спадет жара, все втроем: высокий, болезненный, в белой рубашке с отложным воротником, смуглый от загара, с красивой седой головой, с плавными и мягкими движениями — Сергей Яковлевич, а рядом порывистая, худая, коротко стриженная, седоватая, с папиросой во рту, женщина, в которой никто не узнает гениальной Цветаевой, и пухлый, неуклюжий Мур — отправляются на станцию встречать Алю. Они гуляют по платформе среди других таких же гуляющих дачников, пропуская поезд за поездом, пока не появится наконец нагруженная коробками, свертками, сумками сияющая Аля, и часто не одна, а в сопровождении стройного брюнета. И тогда они все впятером возвращаются на дачу.
«Энигматическая Аля, ее накладное веселье…» Но Марина Ивановна была не права: Аля тогда действительно была веселой, и более того, счастливой. «Я там была по-настоящему счастлива, и сознавала, что счастлива. Не потом, путем сравнения, поняла, что то было счастье, а так просто — жила, и каждый день был сознательным, вернее — осознанным счастьем…» Аля была молода, хороша, ее необычайной голубизны венецианские глаза, золотые волосы, живость характера, веселость — покоряли окружающих. Когда она ездила в декабре к отцу в Кисловодск, где он лечился, то там под куполом горного неба, лежащего на снежных вершинах Казбека и Эльбруса, она завоевала сердца сразу восьмерых летчиков, каждый из которых в свой черед сделал ей предложение и каждому из которых она отказала. А потом, вернувшись в Москву, смеясь, хвасталась друзьям своими победами.
А с первого января 1938 г. она была зачислена в штаты журнала, который давал ей до этого переводы на дом. Спустя тридцать лет Аля напишет об этом Антокольскому:
«Когда в 1937 г. приехала я из Франции сюда, то стала работать в жургазовском журнальчике «Revue de Moscou», выходившем на фр. языке для заграницы. Время было то самое; бедный журнал на мелованной бумаге подчинял свое врожденное убожество требованием сталинской цензуры; лет мне было еще совсем немного и все меня за это любили, т. ч. жила я радостно и на все грозное лишь дивилась, comme une vache regardant passer les trains…[18]
За все бралась с легкостью; все на свете переводила на французский; — «А стихи можете?» — Могу, ответила я, И дали мне: «Ночь листвою чуть колышет, серебрится диск луны» и т. д., чтобы потенциальным французским читателям тоже, как и нам, жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи! Я и перевела ничтоже сумняшеся…
На последней странице обложки была в красках изображена — как живая — бутылка шампанского и помещен призыв: «Buvez le champagne soviétique!»[19] Французы быстро откликнулись: стали приходить письма, в которых они клялись нам, что jamais de la vie не будут boire le champagne soviétique, когда есть le champagne français.[20] Помню, какой-то паренек «оттуда» прислал в редакцию Revue письмо: он собирал бабочек и предлагал échanger des papillons français contre des papillons russes[21], я было хотела ответить, но редактор не разрешил; сказал, что это — явная провокация и могут посадить. И правда, посадили вскорости; и даже не за бабочек… Впрочем, и редактора тоже; и тоже не за них.»
Но писала это Аля в 1966 году, а тогда в 1937 — «убогий журнальчик» казался ей прекрасным и она с радостью в нем работала. Она была в полете, она любила. Он тоже работал в том же жургазовском особнячке, напротив Нарышкинского скверика. «…Счастливой я была — за всю свою жизнь — только в тот период… в Москве, именно в Москве и только в Москве. До этого счастья я не знала, после этого узнала несчастье.»
…Рано поутру Аля сбегает с террасы и по ржавой дорожке между соснами бежит к калитке в летнем пестром платье, в босоножках, размахивая сумками, обратно она потащит их набитыми продуктами, а сейчас налегке она успевает догнать уже приближающийся к станции поезд и, вскочив в вагон, высовывается из окна, подставляя лицо ветру, улыбаясь навстречу дню. И день ее не обманывает.
Еще в 1913 году Марина Ивановна написала стихи маленькой Але:
Аля! Маленькая тень
На огромном горизонте:
Тщетно творю: «Не троньте!»
Будет день —
Милый, грустный и большой, —
День, когда от жизни рядом
Вся ты отвернешься взглядом
И душой…
День, когда с пером в руке
Ты на ласку не ответишь,
День, который ты отметишь
В дневнике…
И это случилось, и именно теперь. И Марина Ивановна с пристрастием допытывала: любит ли она его? И Аля, захлебываясь, произносила все слова в превосходной степени, и Марина Ивановна сердито ее обрывала, утверждая со свойственной ей категоричностью, что любовь не терпит степеней и не нуждается в эпитетах. Важно только — да или нет.
Аля! Будет все, что было:
Так же ново и старо,
Так же мило!
Будет — сердце, не воюй,
И не возмущайтесь, нервы! —
Будет первый бал и первый
Поцелуй.
Будет «он». (Ему сейчас
Года три или четыре)…
Марина Ивановна ошиблась только в одном — ему тогда было не три или четыре, а больше. Кажется, он был старше Али лет на семь-восемь. Ну, а что касается, «сердце, не воюй и не возмущайтесь, нервы…», то заклятия эти не действовали.
В любой семье бывает непросто, когда дочь выходит замуж или сын женится, и как часто мать или отец относятся к этому событию ревниво. А у Марины Ивановны никогда ничего не было в жизни просто, и потом, как говорила Аля, она была: «великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев». И как сама Марина Ивановна писала: «Чувство собственности ограничивается детьми и тетрадями».
А тут появился не только совладелец Алиной души, но и просто владелец ее — Али, которая была дитя ее души… Которую она когда-то творила, и это неважно, что она уже творила Мура, а с Алей у нее были сложные и зачастую чрезмерно трудные отношения, и Аля давно от нее отошла, о чем сама Марина Ивановна не раз поминала в письмах. Все равно — это была ее Аля, которая стала его Алей! И она не могла к этому не относиться ревниво и не могла не ревновать к тому огромному чувству, буквально захлестнувшему Алю, и к тому ответному чувству… А меня — так мало любили, так — вяло… И потом еще мать, у которой дочь выходит замуж, не может не ощутить первого дуновения надвигающейся старости… «Дочь — всегда соперница», — замечает Марина Ивановна в своем повествовании «Дом у старого Пимена». Не надо понимать эти слова в буквальном смысле, это ревность отживающего к нарождающемуся, уходящего к остающемуся, несбывшегося — к сбывающемуся у других и наконец просто неутоленная жажда жить!..