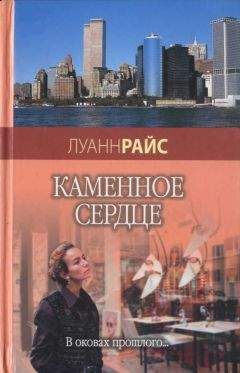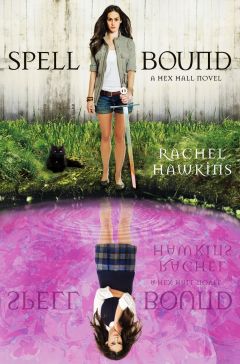Мария Белкина - Скрещение судеб
— Альков? — переспросило начальство. — Это что, Московская область?
Но в конце концов Сергею Яковлевичу все же была предоставлена эта самая дача в Болшево. И вот теперь на этой болшевской даче предстояло жить зимой и Марине Ивановне с Муром. И было еще одно обстоятельство, которое вряд ли обрадовало Марину Ивановну по приезде, дача была общей. «Впервые чувство чужой кухни…» — запишет она в дневнике, а она и в своей кухне не очень-то умела управляться.
На другой половине дачи жила семья Клепининых. У них, вернее у нее, от первого брака было два сына, один из них приятель Мура — Митя Сеземан, другой — Алексей, уже женатый и его жена с грудным ребенком тоже жила на даче, и еще была девочка Софа, дочь от Клепинина и бульдог. Одно дело было встречаться в Париже, дружить, ходить друг к другу в гости, другое — оказаться под одной крышей! Думается, и той и другой семье это особой радости не доставляло. Марина Ивановна надеялась, а комендант обещал, что сделают перегородку.
Дневника Марина Ивановна в Болшево не ведет. Можно предположить, что она ждет — со дня на день ей должны выдать ее багаж, и тогда она продолжит свою тетрадь, прерванную отъездом из Парижа. Вряд ли тогда, в Болшево, до ареста Али, до 27 августа, у нее могли быть опасения, что не стоит доверять свои мысли и чувства бумаге… Ну а потом, потом она и в Голицыно не будет вести дневника и только уже осенью 1940-го вернется к той, парижской, тетради и напишет о болшевских днях:
«18-го июня приезд в Россию. 19-го в Болшево, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефонам. Энигматическая Аля, ее накладное веселье…»
«Мытарства по телефонам» — это, конечно же, таможня, где задержаны ее вещи.
Но продолжим цитату из дневника Марины Ивановны о Болшево:
«…Живу без бумаг, никому не показываюсь. Кошки. Мой любимый неласковый подросток — кот. (Все это для моей памяти, и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит — такого). Торты, ананасы, от этого — не легче. Прогулки с Милей[16]. Мое одиночество. Посудная вода и слезы. Обертон — унтертон всего — жуть. Обещают перегородку — дни идут, Мурину школу — дни идут. И отвычней деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя. Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день. Когда — писать?
Девочка Шура.[17] Впервые — чувство чужой кухни. Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, во всем (Я что-то вынимая: — Разве Вы не видели? Такие чудные рубашки! — Я на Вас смотрел!)…»
«Погреб: 100 раз в день. Когда — писать?» Но может быть, все же не это остановило тот поток стихов, который шел еще совсем недавно на Boulevard Pasteur в грязном и тесном отеле, где жила в последние месяцы своего пребывания в Париже Марина Ивановна. Хлопот у нее было не меньше, и жара стояла, а стихи все же шли… «Как раз сегодня получила в нескольких экз. (машинка), сейчас (12 ч. ночи, Мур давно спит) буду править, а потом они начнут свое странствие. Аля уже получила… Получилась (бы) целая книжка, но сейчас мне невозможно этим заниматься. Отложу до деревни…»
А в деревне — «Обертон — унтертон всего — жуть». Да, Марина Ивановна записывает это спустя год, когда все уже свершилось и сквозь призму этой трагедии она видит те дни, проведенные ею в Болшево. А тогда, до 27 августа, было ли у нее какое предчувствие, ожидание беды?!
«…Постепенное щемление сердца… Живу без бумаг, никому не показываюсь…» Какая-то мучительная неопределенность. Не может позвонить друзьям, дать знать, что она здесь в Москве, не может ни с кем встретиться, написать или просто так пойти на какой-нибудь литературный вечер. Она и с Борисом Леонидовичем видалась только раз, мельком…
— Ей велено жить в строжайшем инкогнито, — сказал он Тарасенкову.
И Сергей Яковлевич все еще здесь не Эфрон, а Андреев, его всё от кого-то скрывают и полтора года он уже не у дел. Деньги получает и Аля хорошо зарабатывает, но «торты, ананасы, от этого не легче», Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, во всем…»
А Сергей Яковлевич, он ведь знает, что арестовывают тех, кто был связан с Испанией и подлинных испанцев, и наших, кого посылали. А он стольких отправил оттуда из Парижа добровольцев!.. И в НКВЛ в том отделе, который ведал разведкой, исчезают те, с кем он был связан по работе. И не ждет ли и он… И не охватывает ли его опять чувство вины перед Мариной Ивановной?! Он так часто писал в письмах оттуда из-за рубежа Лиле, что мучает его то, что из-за него Марина попала в эмиграцию! «Мне горько, что она из-за меня здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь. И никак ее из этого состояния не вырвать. Во всяком случае, через год-два перевезу ее обратно.» Перевез…
Марина Ивановна, что-то вынимая из чемодана.
«— Разве Вы не видели? Такие чудные рубашки. — Я на Вас смотрел!»
В такой короткой дневниковой записи Марина Ивановна дважды поминает о слезах: «…ручьи пота и слез в посудный таз…»
Но чем дальше — тем слез будет больше… Тот, кто встречался с Мариной Ивановной в 1940–41 годах, должно быть, заметил, что вдруг, казалось бы без всякой причины, из глаз у нее начинали литься слезы. Она писала В. Меркурьевой: «Заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не понимает, что плачет не женщина, а скала…»
Но плакала женщина… Правда, тогда в Болшево еще не стряслось самого страшного, еще были на свободе Аля и Сергей Яковлевич, но «обертон — унтертон всего — жуть…»
Ну, а внешне жизнь на этой болшевской даче текла, как и на всех других дачах. Стояла жара. Градусник показывал 32 градуса в тени. Для Москвы, Подмосковья жара небывалая, впрочем и прошлое лето было жаркое, а зима была лютая, и будущая зима будет лютой, и будущей зимой будет финская война, и скольких людей покалечат морозы, там на финской земле…
Ну, а пока было лето, невыносимый зной. Сосны не спасали тенью. Ржавая подпалина крон, голые ржавые стволы на ржавой земле, засыпанной сухими иглами. Мальчишки изнывают от жары — Мур и Митя. Пес лежит у терраски, высунув язык, и, прикрыв глаза, дремлет.
И рано поутру Аля успевает вымыть пол на террасе и босая, развешивая выстиранное белье между сосен на веревке, сердито выговаривает Муру, что он опять не мыл ноги, что не может она ему каждый день стелить чистые простыни. Он неженка, лентяй, он может и холодной водой вымыть ноги! А потом торопиться на вокзал к поезду.