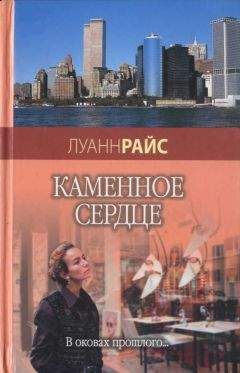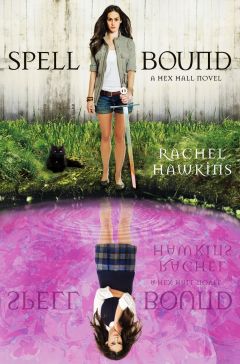Мария Белкина - Скрещение судеб
На ее рабочем столе уже стояли цветы, а над открытым окном свисали тяжелые ветки старого дерева, которое давало тень столикам в ресторанчике, и воробьи, эти ресторанные завсегдатаи, оживленно и без умолку трещали на ветках.
Обедать Аля пойдет с ним вниз, в ресторанчик, где все его знают, где он будет раскланиваться направо-налево, знакомить ее, явно гордясь ею, и их будут оглядывать, оглаживать взглядами. Они хорошо смотрятся вместе, оба высокие, стройные, молодые, она блондинка, голубоглазая, он брюнет, с темными глазами.
Они долго будут сидеть за столиком. А потом он поедет ее провожать и останется на даче. Или она останется в городе…
В Болшево на даче бывали только Нина и Муля. Однажды Аля расхрабрилась и привезла с собой Лиду Бать. «Мы работали с ней вместе в «Revue de Moscou», хорошо относились друг к другу, настолько, что она была, кажется, единственной знакомой, которую я решилась, несмотря на все запреты познакомить со своими «законспирированными» родителями на нашей болшевской даче в 1939 г. Лида, как помню, привезла тогда кому-то из нас в подарок большую, красивую фарфоровую чашку василькового цвета… Почему-то запомнилась мне эта чашка. Был тогда красивый, солнечный, теплый август, сидели мы на террасе, мама была в темном с цветочками ситцевом платье, длинном, в талию, с широкосборчатой юбкой — платье любимого ею на всю жизнь, с ранней юности, фасона «бауэрлькляйт».
Да, это было уже в августе… 21 августа Марина Ивановна получила на руки советский паспорт.
Потом в том же августе где-то уже совсем незадолго до ареста была у Али встреча с Борисом Леонидовичем. Он зашел в редакцию и они вышли посидеть в Нарышкинский скверик. Осень в том году была ранняя, после засушливого и чрезмерно знойного лета листья уже успели пожелтеть и осыпались на дорожки. А мимо скверика проносились трамваи, заслоняя на минуту милый и уютный жургазовский особняк. Трамвай «А» бежал по кольцу к Страстной площади, к площади имени Пушкина, а 27-й сворачивал на Малую Димитровку. И пешеходы, кому надо было пересечь трамвайные рельсы и перейти туда, где жургазовский особняк, застывали у чугунного вертящегося турникета, когда в листве зажигалась сигнальная лампочка, предупреждавшая — «Осторожно, трамвай!»
И Але и в голову не могло прийти в тот еще жаркий августовский день, что «Аннушка уже купила подсолнечное масло и не только купила, но даже и разлила…» и что вот-вот ей, Але, суждено будет поскользнуться…
Спустя много лет в 1955 году Аля напомнит в письме Борису Леонидовичу эту их встречу: «…мы с тобой сидели в скверике против Жургаза, вскоре после отъезда Вс. Эм.[23] Кругом была осень и дети, кругом было мило и мирно, и все равно это был сад Гефсиманский и моление о чаше. Через несколько дней и я пригубила ее…»
Но тогда никаких предчувствий. Все так радостно и светло. И радость от ясного дня, и радость встречи с Борисом Леонидовичем, и радость от того, что может сообщить об этой встрече Марине Ивановне, отцу, Муле. Уже окончательно все было решено: он уходит из семьи и они будут жить вместе в своей комнате, которая у них уже была…
Шуретте наконец пришлось уступить. Она все тянула. Просила повременить, пока она сама не сделает первого шага, то есть не выйдет замуж за своего поклонника-врача. Она была очень самолюбива и хотела, чтобы считалось, что это она ушла от Мули, а не Муля от нее, так, по крайней мере, говорили ее друзья. Но, быть может, она просто надеялась, что время Мулю излечит и все обойдется, как бывало и раньше. Но ничего не обходилось, время шло, а Муля был по-прежнему влюблен, и Шуретта с ним совладать не могла…
И еще, уже потом совсем впритык к тому роковому воскресенью 27 августа — Аля с Мариной Ивановной были на Сельскохозяйственной выставке. Выставка только недавно открылась и каждый день в газетах помещали снимки и репортажи. Было даже специально организовано пресс-бюро, которое должно было во всех газетах страны и по радио освещать это грандиозное, небывалое событие. А все события в нашей стране всегда были грандиозные, небывалые и первые в мире, и о них кричали, бия в барабаны, в литавры, должно быть, для того, чтобы заглушить скудость и трудность повседневной жизни. Попасть на выставку было трудно, билеты продавались по учреждениям. Видно, и Аля получила билеты в своем журнале и повела Марину Ивановну.
Гремели оркестры. Плескались фонтаны. Крутились карусели. Гигантские позолоченные снопы колосьев вздымались до неба. Колхозницы в три обхвата, тоже позолоченные или посеребренные, застыли на своих пьедесталах. Портреты вождя были выложены из цветов, яблок, персиков, Изобилие, довольство, благодать!
Поэты надрывались с трибун: Сурков, Гусев, Сельвинский, Алтаузен, Сергей Васильев, Уткин, Жаров, Безыменский, Долматовский, сколько поэтов! А в толпе не замеченная бродила Цветаева…
«Забыла: последнее счастливое видение ее (Али — М.Б.) — дня за 4 — на Сельскохоз. выставке, «колхозницей», в красном чешском платке — моем подарке. Сияла…» запишет потом, год спустя Марина Ивановна.
Наступило 26 августа, суббота. Аля приехала вместе с Мулей, и допоздна они бродили как всегда по заснувшему уже дачному поселку. Как-то в августе, когда они вот так же гуляли ночью, Муля вдруг у самой дачи оставил Алю посреди дороги и пошел прямо на кусты — из кустов, как ни в чем не бывало, вылез детина и, насвистывая удалился.
— За дачей следят, — сказал Муля.
Взволновало ли это Алю? Вряд ли. Она была так счастлива и за этим своим счастьем была как за бронированной стеной, от которой должны были отскакивать даже пули, и потом ведь она знала, что она так чиста, так безгрешна перед Советской властью, а отец ее так предан… Случайность? «Небрежен ветер: в вечной книге жизни мог и не той страницей шевельнуть…» Но молодость требует утех, и так не хочется верить, что где-то там, за углом, тебя может подстерегать судьба. И потом — на все грозное она еще дивилась!
Аля с Мулей тихонько пробрались в дом. Марина Ивановна любила читать лежа в постели, был ли у нее уже потушен свет или она еще читала; успели ли заснуть Аля и Муля, когда у калитки затормозила машина и по дорожке раздались шаги и топот ног по террасе, и бесцеремонный стук в окна, и в дверь.
«(Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче:)
27-го в ночь арест Али. Аля — веселая, держится браво. Отшучивается.
…Уходит, не прощаясь. Я — Что же ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается. Комендант (старик, с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы…»
И Аля идет, вернее, ее ведут «ранним-ранним утром» по ржавой от хвои дорожке между сосен к калитке, по той самой дорожке, по которой она каждое утро торопилась на поезд…