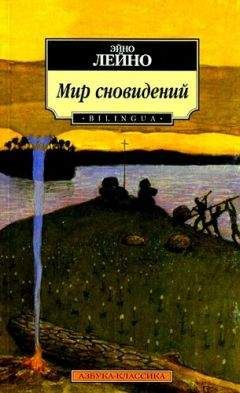Черубина де Габриак - Исповедь
«Пускай душа в смятеньи снова…»
Пускай душа в смятеньи снова…
Веленья духа ты твори…
Ведь до сих пор ты не готова,
Еще в тебе не стало слово
Преображенным изнутри,
Затем, чтоб радостно и молча
В нем светлом воссияла ночь.
Ты все в какой-то жажде волчей
Души не хочешь превозмочь.
Зачем она. Минуло пламя
Тревожны жадные уста,
А легкий дух, он вместе с нами
Глаголет вечными словами,
И глубина его чиста.
Кого зовешь? Врага ли, друга ль?
Стихии трепетной не тронь,
Пусть сам Господь раздует уголь,
Преображающий огонь.
«Так величав и так спокоен…»
Так величав и так спокоен
стоит в закате золотом
у Царских Врат небесный воин
с высоко поднятым щитом.
Под заунывные молитвы,
под легкий перезвон кадил
он грезит полем вечной битвы
и пораженьем темных сил.
В лице покой великой страсти…
Взлетя над бездной, замер конь…
А там внизу в звериной пасти
и тьма и пламенный огонь.
А там внизу мы оба рядом,
и это путь и твой и мой;
и мы следим тревожным взглядом
за огнедышащею тьмой.
А Он вверху, голубоглазый,
как солнце поднимает щит…
И от лучей небесных сразу
земная ненависть бежит…
Любовью в сладостном восторге
печальный путь преображен…
И на коне Святой Георгий,
и в сердце побежден дракон.
«Два крыла на медном шлеме…»
Два крыла на медном шлеме,
двусторонний меч.
А в груди такое бремя
несвершенных встреч.
Но земных свиданий сладость
потеряла власть, —
он избрал другую радость —
неземную страсть.
И закованный, железный
твердо он пошел
над кипящей черной бездной
всех страстей и зол.
Сам измерил все ступени,
не глядя назад,
он склонил свои колени
лишь у царских врат.
И венец небесных лилий
возложила та,
чьих едва касалась крылий
строгая мечта.
Но, склоняясь пред Мадонной,
вспомнил он на миг
в красной шапочке суконной
милый детский лик.
То — она еще ребенком.
Все сады в цвету.
Как она смеялась звонко,
встретясь на мосту.
Но в раю земных различий
стерты все черты.
Беатриче, Беатриче.
Как далеко ты.
«И вечер стал. В овальной раме…»
И вечер стал. В овальной раме
застыла зеркала вода.
Она усталыми глазами
в нее взглянула, как всегда.
Волос спустившиеся пряди
хотела приподнять с виска.
Но вот глядит, и в жутком взгляде
и крик, и ужас, и тоска…
Тоска, тоска, а с нею вещий,
неиссякающий восторг,
как будто вид привычной вещи
в ней бездны темные исторг.
И видит в зеркале не пряди,
не лоб, не бледную ладонь,
а изнутри в зеркальной глади
растущий в пламени огонь.
Душа свободна. Нет предела,
и нет ей места на земле,
и вот она покинет тело,
не отраженное в стекле.
Священной, непонятной порчи
замкнется древнее звено,
и будет тело биться в корчах,
и будет душу рвать оно.
Но чрез него неудержимо
несется адских духов рой…
Пройди, пройди тихонько мимо,
платком лицо ее закрой.
Людским участием не мучай.
Как сладко пробуждаться ей
из темной глубины падучей
среди притихнувших людей.
«В зеркале словно стекло замутилось…»
В зеркале словно стекло замутилось,
что там в зеркальной воде?
Вот подошла и над ним наклонилась…
Господи, Боже мой, где,
где же лицо, где засохшие губы;
в зеркале пусто стекло.
Слышу я трубы, нездешние трубы.
Сразу зажгло
зеркало все ослепительным светом
пламя не нашей земли.
Это ли будет последним ответом?
Господи, Боже, внемли.
Душу ты вынешь, измучаешь тело,
страхом его исказя.
Я ведь и в церкви молиться не смела,
даже и в церкви нельзя.
Вынесут чашу с Святыми Дарами, —
Божьи сокрыты пути…
Вижу над чашей я черное пламя
и не могу подойти.
Стану я биться и рвать свое платье,
плакать, кричать и стонать.
Божье на мне тяготеет проклятье,
черной болезни печать…
Сердце не бьется. И жду я припадка,
вижу бесовскую тьму…
только зачем так мучительно-сладко
мне приближаться к нему?
«Смотри: вот жемчуг разноцветный…»