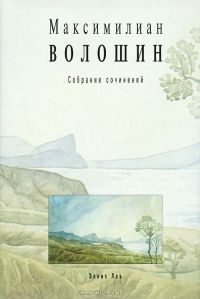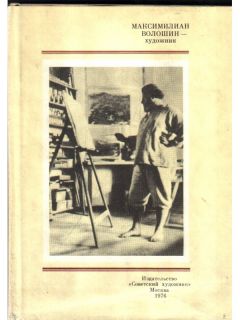Максимилиан Волошин - Путник по вселенным
Рассвет. Электричество гаснет. Синеватый подводный свет дня льется сквозь окна.
Зал пустеет. Как осенние листья, уносятся последние танцоры бала. На полу, как следы урагана, остались куски разноцветной ткани, обрывки мишурных ожерелий, блестки золота, осколки бокалов, растерзанный букет цветов, забытый алый плащ.
Кое-где в углах еще кружатся забывшиеся в экстазе танца плясуньи, которые продолжают танцевать одни, для себя, не слыша, что угас и рассыпался последний аккорд оркестра, и не замечая, что синеватая зала опустела и поблекла.
Другие пользуются моментом, чтобы сбросить с себя на минуту ткани и скользнуть в последнем танце через залу, между угасающими блестками и лоскутами бала, точно лепестки розы, подхваченные ветром.
Шесть часов утра. Золотистое весеннее утро, дымчатое и свежее… Пустынные и гулкие улицы просыпающегося Парижа, с их утренними обитателями: молочницы в голубых платьях, гарсоны, снимающие ставни с кафе, эписьерки[23], булочницы, бонны в белых чепцах, растворяющие окна.
И сквозь этот деловой, утренний, сдержанный Париж, с криками, песнями и музыкой, кто пешком, кто в каретах, кто верхом на извозчичьей лошади, кто, взобравшись на верх кареты, разгоряченные пляской и головокружением бала, пестрой лентой в две тысячи человек, возвращаются художники с Монмартра, чтобы по старинной традиции заключить праздник на дворе Ecole des Beaux Arts.
«A poil! A poil!! Эй, вы! Платье долой!!» – кричат они, обращаясь к женским фигурам, с любопытством выглядывающим из окон.
И разгульный крик вырастает в этой утренней тишине Парижа до символического протеста жизни и язычества.
Это идут последние непримиренные, последние язычники, последние, которых коснулся тирс Диониса.
«A pile! A pile!!» Потом вся толпа начинает петь: «Conspuez Bérenger… Conspuez Berenger! Con-spu-e-ez!![24]
Ha Place du Carousel делает ученье батальон Национальной гвардии.
Шествие останавливается.
«Да здравствует армия! Salut á l'Armée!!»
И все соскакивают с экипажей, сбрасывают плащи и шляпы, полуприкрывающие костюмы бала, и через пять минут вокруг всей Карусельной площади, замкнутой строгими колоннадами Лувра, с солдатами посередине, несется в бешеной пляске grand-rond[25].
Офицеры приветствуют художников восклицаниями. Потом все бегом возвращаются к своим экипажам. «Conspuez Berenger! Conspuez Berenger! Con-spu-e-eez!»
Сена. Золотистые блики солнца в воде. Шелестящие тополя, с клейкими бледными листьями.
Rue Bonaparte, как узкое сырое ущелье, прорезанное косым столбом света.
И вот, наконец, старинный двор Ecole des Beaux Arts с почерневшими тонкими колоннами Ренессанса. «Conspuez Bérenger! Conspuez Bérenger! Con-spu-e-e-ez!»
– Товарищи! Мы теперь у себя, и здесь никакие глупые полицейские предписания нас не касаются! Поэтому будем продолжать здесь наш бал. А пока на память о бале получите это… Это великолепное средство против новой заразной болезни – стыдливости (pruderie), которое называется bérengite!..
И бозарец в костюме центуриона, взобравшись на серый цоколь статуи Демосфена, кидает в толпу пряники, имеющие вид поросят с надписью «Théodora».
Их подхватывают с криками и хохотом.
«И мне одного Беранже! Эй ты! Сюда! Сюда Беранже!.. Еще!..
– A poil! A poil! Мы теперь у себя.
Толпа расступается, и одна из натурщиц – девушка лет восемнадцати – выбегает на середину двора, сбрасывает с себя одежду и нагая начинает пляску. Вкруг ее стана вьются струйки золотистой газовой ткани. Она подхватывает ее рукой и жестом Саломеи{13} обвивает вокруг головы.
Острый утренний холод жжет тело. Сиреневые полосы тени чередуются с золотистыми столбами солнечной пыли. Зацветающие каштаны тянут свои лапчатые листья сквозь стрельчатые балюстрады и колонны.
Строгие статуи богов и философов каменным оком взирают со своих пьедесталов.
И на почерневших мраморных плитах, поросших мелкой травой и бурым мохом, под ясным пологом небесной лазури, перед лицом всего радостного и старого Парижа, плывет, бьется, плещется розоватое, перламутровое женское тело, в размахе исступленной пляски, как воспоминание Древней Греции, как смелый жест Ренессанса, как воплощенная греза мужчины, греза о женщине-цветке, уносимом водоворотами танца, как последний протест язычества, брошенный в лицо лицемерному и развратному мещанству…
И до самого вечера в разных кварталах Парижа по кафе мелькают одинокие затерявшиеся маски, как пестрые лоскутья на полу помутневшей рассветной залы, по которой прошел ураган весеннего шабаша.
Кровавая неделя в Санкт-Петербурге
Я приехал в Петербург утром 22 января{1} из Москвы. По Москве ходили смутные слухи о забастовке и называли имя Гапона. Но о том, что готовилось, – никто не имел никакого представления. Проходя по Литейному, я увидел на тротуарах толпы людей; все, задрав головы, смотрели расширенными от ужаса глазами. Я повернулся, стараясь понять, на что они так смотрели, но ничего не увидел. Я почувствовал, что их взгляды скользят совсем близко от меня, не останавливаясь на мне. И вдруг я разглядел, что во всех санях, которые проезжали мимо меня, находились не живые люди, а трупы. Извозчичьи сани слишком малы, чтобы можно было уложить тело: поэтому убитые были привязаны. В одних санях я увидел близко рабочего: черная густая жидкость вытекла у него из глаза и застыла в бороде; рядом с ним другой, в окровавленной шубе, с отрезанной кистью, еще живой, он сидел прямо, а потом тяжело привалился к спинке. В следующих санях везли труп женщины, с запрокинутой назад и болтающейся головой: у нее был прострелен череп. Дальше труп красиво одетой девочки, лет десяти.
В этот момент я увидел на небе три солнца – явление, которое наблюдается в сильные холода и, по веровании некоторых, служит предзнаменованием больших народных бедствий.
«Это перевозят народ с Троицкого моста», – объяснил мне извозчик. По инерции я продолжал путь к Васильевскому острову. На Невском – массы народа; нас несколько раз теснили волны бегущих, но за морем черных спин нельзя было разглядеть причины их бегства. Около Исаакиевского собора бивуаком расположились войска, горели костры. Солдаты, чтобы согреться, прыгали на месте, топали ногами, и боролись. В толпе говорили: «Топайте, топайте, – вот так же вы топтались во время войны». Проезжавшим кавалеристам кричали: «Вот она кавалерия, которая отбирает назад Порт-Артур».
На Васильевском острове толпы не было, но были патрули. Меня не пропустили дальше Третьей линии. Все было так мирно, что я и не подозревал, что в этот момент на соседних улицах воздвигались баррикады. Когда я повернул назад, меня остановил патруль. Пока я говорил с солдатами, подошел бледный, с дрожащей челюстью рабочий, в истерзанных одеждах, и, обращаясь частью ко мне, частью к солдатам, рассказал, что на Дворцовой площади по толпе были даны два залпа. «Толпа собралась, чтобы увидеть царя. Говорили, будто он примет рабочих в два часа. Было много женщин и детей. На площади войска выстроились, как для встречи царя. Когда трубы заиграли сигнал: «В атаку!», люди решили, что едет царь и стали вставать на цыпочки, чтобы лучше видеть. В этот момент, без всякого приказа, был дан залп, потом другой, прямо в упор по толпе». Солдаты окружили человека и слушали его с тем же выражением ужаса и сострадания, какое я видел на Литейном в толпе, глядевшей на «крестный ход» убитых. В этот момент был отдан приказ, и солдаты ушли… чтобы стрелять, быть может.