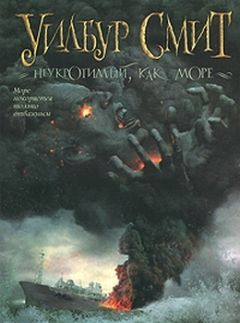Антология - Есенин глазами женщин
Мне двадцать, Кате, я думала, двадцать три. Она повыше меня, темные волосы и глаза, плакатно красивое, с правильными чертами лицо, полна, но статна. И на диво легкая и плавная походка. У такой павы отбить любимого, пожалуй, лестно для юной девчонки (по годам я не так уж юна – двадцать лет, но по опыту любовному еще совсем дитя).
Мы здороваемся. На смену убийственному взгляду – искусно наигранная не только любезная, но и вполне приветливая улыбка. (Учись, Надя: вот как можно и нужно владеть собой! А знали бы вы, Катенька, как вас подвело зеркало…)
Через два-три дня, когда Есенин выходил со мной из СОПО, собираясь меня проводить, Катя Э. решительно и требовательно к нему подошла. Сергей просит меня не обижаться – «завтра все объясню!» – и усаживает соперницу мою в пролетку.
Обиделась ли я? Нет! Я уже знаю, что той не двадцать три, а тридцать два. И в своем девическом неведении воображаю, что к зрелой женщине мне нечего ревновать Сергея. Тем более, что она… лишь предшественница. Я, точно девочка-подросток, полагаю, что настоящее чувство, одухотворенное, возможно только у молодых, с Катей же Сергея может связывать только то, что зовется физической близостью.
Мне вспомнилась недавняя беседа, проведенная в военном госпитале с санитарками и прочим женским персоналом агитаторшей из женотдела, – беседа о свободной любви, как ее понимает партия. Пожалуй, не лишним будет привести ее здесь – как характерную черту того времени.
…Не путать свободу любви с развратом! Ищешь свободы для себя – так уважай и чужую свободу. Но главное: во взаимоотношениях мужчины и женщины нужна прежде всего честность. Запретов нет – но будь честен и прям! Любовь не терпит уз! Насильно мил не будешь. Разлюбила, полюбила другого – честно объяви мужу: «Ухожу от тебя, наша связь была ошибкой». Услышала то же от мужа – не удерживай его, пусть с болью в душе, но отпусти! Можете менять мужей хоть каждый год, хоть каждые три месяца – но все делайте открыто, по-честному! Не живите сразу с двумя. Вот это уже разврат! В ретивом своем красноречии докладчица договорилась – мне не поверят, но это было так, – договорилась до того, что мужей можно менять «хоть каждый месяц, хоть каждые две недели» – с непременным, однако, условием «честного признания» и… «не жить с двумя одновременно». Любопытно, что слово «ребенок» ни разу не было упомянуто, и о детях у поборницы «свободной любви» вопрос не возникал.
На другое утро, когда я шла в госпиталь (напомню, я работала там библиотекаршей), меня нагнала санитарка Дуся, женщина лет тридцати (лукавая улыбка и чертики в глазах), спрашивает:
– Надя, скажи, ты гуляешь?
Я делаю вид, что не так поняла. Где уж мне гулять и когда! Я, мол, и у них работаю, и в университете учусь, да еще выкраиваю время, чтобы стихи писать!
– А я гуляю! – лихо объявляет Дуся. – А скажи, что вчера эта баба из женотдела толковала, чтобы не жить с двумя сразу? Это как же с двумя-то? Ложиться втроем в постель? Женщине с двумя мужиками?
Вот так-то вас поняли, провозвестница «новой» морали!
Кстати, напомню. За рубежом в те годы шла пропаганда, будто в Стране Советов осуществляется «социализация женщин», вошла-де в норму «общность жен». Года два спустя, работая на газетном каталоге в аппарате Коминтерна, я встречалась и беседовала с рабочими из самых разных стран. И все они выражали недоумение перед неожиданно трудной доступностью русской женщины. У них-де все думают, что уж раз «свободная любовь», то пальцем помани, и женщина упадет в твои объятия! Нет, уверяли они, наши уступают куда легче… И склонны были объяснить свое разочарование… прирожденной холодностью северянок.
Письмо из Кисловодска
Двадцатый год. Лето. Спустя какое-то время после пощечины Ипполиту Соколову. Мы в моей комнате – в Хлебном. Смирно – после отбитой атаки – сидим рядышком на тахте. Есенин большим платком отирает лоб. Затем достает из кармана распечатанное письмо.
– Вот. От жены. Из Кисловодска.
Знаю, что с женой он разошелся. Но развода еще не оформил.
– Она там с ребенком. А пишет, как всегда: чтоб немедленно выслал деньги.
– Пошлете?
В голосе Есенина сильное раздражение.
– Конечно! Но только когда пройдет это «немедленно»!
А я позволяю себе вмешаться с советом: она там одна с его ребенком – приятно ли ему будет, чтоб она одалживалась у посторонних?
Есенин удивленно смерил меня взглядом:
– Вы, кажется, правы.
Саван
Двадцатый год. Жаркий летний вечер. Мы сидим рядом на оттоманке у меня в Хлебном.
– Случалось вам прямо глядеть в глаза смерти? – спросил Есенин.
– Еще как! Не раз и не два.
И я рассказываю, как меня родной брат, играя в войну, объявил японским шпионом, «поймал» и… повесил! А что еще прикажете делать со шпионом? Из петли меня вынули далеко не сразу, едва живую. Мне шел тогда пятый год, брату восьмой. Позже, на девятом году, меня за размытые косы вытащили тонущую из воды (сестра углядела издалека – «вон чьи-то волосы плавают!»). А потом, тоже при купании, меня сдуру едва не утопила толстая и очень трусливая девчонка…
– …В Черном море. Под Феодосией. А вы? Если не считать войны?
Сергей кивнул утвердительно. И рассказал, как юношей лежал он в тифу, бредил в жару… А мать открыла сундук, достала толстенный кусок холста, скроила… пристроилась к окну.
– Сидит, слезы ручьем… А сама живенько так пальцами снует!.. Шьет мне саван!
Помолчав, добавил:
– Смерти моей ждала! Десять лет прошло, а у меня и сейчас, как вспомню, сердце зайдется обидой, кажется, ввек ей этого не забуду! До конца не прощу.
Почему он сказал «ждала»? Мать ведь не ждала смерти сына, а… готовилась к ней. «Слезы ручьем!»
К тому дню он еще мало что рассказывал мне о детстве своем, о неладах в семье. Все же я поняла: саван саваном, но есть что-то поважнее, чего он «ввек не забудет» матери. Стараюсь одолеть в нем это «непрощение»: от него, думаю, больно ему самому. Да и «до конца не прощенную» мать мне вчуже стало жалко. Наша-то семья была на редкость дружная. Убежденно, точно из жизненного опыта усвоила – личного опыта, – я уверяю Сергея:
– Но это ведь так понятно! Чисто крестьянская психология: горе горем, а дело надо делать вовремя: помрет сын – не до шитья будет, саван должен лежать наготове. Она крестьянка, а не кисейная барышня, не дамочка – ах да ох! Вот и шьет, а слезы ручьем.
Есенин смотрит на меня с изумлением и словно бы изучая. Девица насквозь городская, а туда же, толкует ему про крестьянскую психологию.
С тех пор он никогда не заговаривал со мной о той давней своей обиде, им до конца не прощенной!
Но я помнила долго, всегда помнила. И спрашивала себя: почему он упорно сам в себе нагнетает это чувство – обиду на мать?