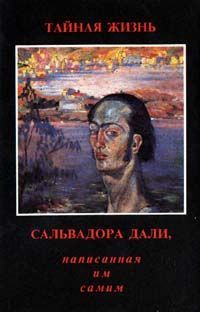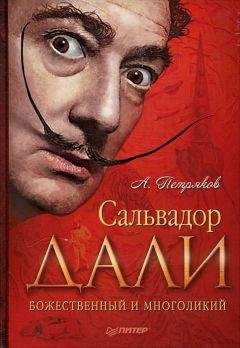Сальвадор Дали - Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим
Все мои соученики знали мои песни и тщетно пытались подражать им. Влияние, которым я пользовался благодаря гимнам, понемногу наводило на мысль об иных «занятиях». Воздерживаясь от одиноких удовольствий, практикуемых обычно мальчиками моего возраста, я ловил обрывки бесед, полные намеков, которые, несмотря на все старания, я так и не мог понять. Сгорая от стыда и опасаясь обнаружить свое невежество, я никогда не осмеливался спросить, как делать «это». Как-то я пришел к выводу, что «это» можно делать и одному, но ведь «это» могло быть взаимной операцией двух или нескольких человек, надо было поскорее разузнать, так ли это. Я видел, как удалились два моих приятеля, заметил, как они молча обменялись взглядами, – и это интриговало меня несколько дней. Они скрылись, а вернувшись, показались мне прекрасными, преображенными. Целыми днями я терялся в догадках, поразительно наивных для моего возраста. Я слабовато сдал экзамены за первый год, но ни одного не провалил, чтобы не тратить лето на переэкзаменовки. Летнее время было для меня святыней. Я страстно ждал его. Каникулы падали на Святого Хуана, а я помнил, что издавна проводил этот день в Кадакесе, выбеленном известкой селении на берегу Средиземного моря.
С детства эти места восхищали меня. Я был фанатично к ним привязан, знал наизусть все уголки и закоулки селения, все его бухточки, мысы, высокие скалы. Здесь заложена вся моя сентиментальная и эротическая жизнь, здесь я изучал, как за день мучительно перемещаются тени со скалы к скале, пока не появляется восковая луна. Во время прогулок я оставляю знаки (чаще всего маслину высоко на пробковой коре) – точь-в-точь на том месте, куда попадает последний луч солнца. Потом я бегу к ближайшему колодцу и утоляю жажду, неотрывно глядя на маслину, которая в определенный момент сверкает как драгоценный камень. Я пью прохладную воду, и это один из элементов странного обряда. Затем я засовываю маслину себе в ноздрю. Бегая, я ощущаю, что маслина мешает моему учащенному дыханию, и вытаскиваю ее. Теперь остается только помыть ее и положить в рот, чувствуя вкус прогорклого масла.
Я больше всего любил этот пейзаж. Мне, так хорошо знакомому с тобой, Сальвадор, ведомо, что ты не мог бы так любить пейзаж Кадакеса, не будь он самым прекрасным в мире, ибо он поистине прекраснейший. Не так ли?
На человеческом лице есть только один нос, а не сотня носов, которые росли бы во всех направлениях. Так же уникален на земном шаре возникший в результате чудесных и неясных обстоятельств пейзаж на берегу Средиземного моря, подобного которому нет больше нигде. Любопытно, что самый красивый, самый одухотворенный, самый исключительный из всех пейзажей располагается по счастливой случайности в окресностях Кадакеса. Вот оно, точное место, где с самого нежного возраста Сальвадор Дали раз в году проходит эстетические летние курсы. Красота и преимущество Кадакеса кроются в его структуре. Каждый холм, каждая скала будто нарисованы самим Леонардо. Что есть еще, кроме структуры? Растительность скудна, мелкие оливковые деревца покрывают своими золотыми волосами задумчивые лбы холмов с полустертыми морщинами тропинок. Со склонов исчезли виноградники, истребленные филлоксерой. Но пустынность только обнажает структуру побережья. Террасы от старых виноградников, подобия геодезических линий, образуют бесформенные ступени, по которым горы величественно спускаются к морю. Как огромные палладины или персонажи Рафаэля, с вершинами, полными ностальгии по вакханкам, безмолвно смеясь, сходят по ступеням цвести у самого берега. На этой неплодородной и одинокой земле с жалкими буграми и сегодня высятся еще огромные обнаженные ноги светлого ароматного призрака, который воплощает и олицетворяет всю кровь утраченных античных вин.
Вдруг, когда меньше всего этого ожидаешь, на тебя прыгает кузнечик! О ужас! И так всегда. В холодный миг моих самых восхитительных созерцаний скачет кузнечик. Его страшный прыжок парализует меня, вызывая скачок страха в моем потрясенном существе. Гнусное насекомое. Кошмар, мучение и галлюцинаторное сумасшествие жизни Сальвадора Дали.
Еще и сегодня этот страх не уменьшается. Может быть, он даже больше. Если б я был на краю пропасти и кузнечик прыгнул мне в лицо, я предпочел бы броситься в бездну, чем вынести прикосновение насекомого. Этот ужас так и остался загадкой моей жизни. Ребенком я восхищался кузнечиками и охотился за ними с моей тетушкой и сестрой, чтобы затем расправлять им крылышки, так напоминающие своими тонкими оттенками небо Кадакеса на закате.
Однажды утром я поймал небольшую, очень клейкую рыбку, которую в наших местах называют «слюнявкой». Я зажал ее в руке, чтобы она нс выскользнула, а выглядывающую из кулака голову поднес к лицу, чтобы получше разглядеть. Но тут же в страхе закричал и отбросил «слюнявку» прочь. Отец, увидев меня в слезах, подошел ко мне, чтобы успокоить. Он не мог понять, что меня так напугало.
– Я… сейчас… – пробормотал я, – увидел голову «слюнявки». Она… она точь-в-точь как у кузнечика…
Стоило мне заметить сходство рыбы с кузнечиком, как я начал бояться этого насекомого. Неожиданно появившись, оно доводило меня до нервных приступов. Мои родители запрещали другим детям бросать в меня кузнечиков, а те то и дело нарушали запрет, смеясь над моим страхом. Мой отец постоянно повторял:
– Удивительное дело! Он так их раньше любил.
Однажды моя кузина нарочно сунула кузнечика мне за ворот. Я сразу же почувствовал что-то липкое, клейкое, как будто то была «слюнявка». Полураздавленное насекомое все еще шевелилось, его зазубренные лапки вцепились в мою шею с такой силой, что их скорее можно было оторвать, чем ослабить хватку. На миг я почти потерял сознание, прежде чем родители освободили меня от этого кошмара. И всю вторую половину дня я то и дело окатывался морской водой, желая смыть ужасное ощущение. Вечером, вспоминая об этом, я чувствовал, как по спине бегут мурашки и рот кривится в болезненной гримасе.
Настоящее мучение ожидал меня в Фигерасе, где снова проявился мой страх. Родителей, чтобы защитить меня, не было, и мои товарищи радовались этому со всей жестокостью, свойственной своему возрасту. Они налавливали кузнечиков, обращая меня в бегство, и, конечно, я уносился как сумасшедший, но спастись удавалось не всегда. Мерзкий полудохлый кузнечик падал, наконец, на землю. Иной раз, раскрывая книгу, я находил вложенное между страниц насекомое, еще шевелящее лапками. Ну и страху же было, когда он вдруг прыгал прямо на меня. Как-то утром я так испугался, что отбросил книгу и попал ею в дверь. Дверное стекло со звоном разбилось, прервав объяснения профессора математики. Мне велено было покинуть класс, и я опасался, что об этом узнают родители. В коллеже мой страх перед кузнечиками достиг такой степени, что полностью занимал мое воображение. Я видел их повсюду, даже там, где ничего не было. Мои отчаянные крики развлекали соучеников. Комочек ластика, брошенный мне в затылок, заставлял меня вскакивать, содрогаясь. Я стал таким беспокойным и нервным, что мне пришлось пуститься на уловку, чтобы избавиться если не от страха, то хотя бы от жестокости других детей. Я смастерил контр-кузнечика: скомкал белую бумагу и уверял, что комок пугает меня больше всяких кузнечиков. Просто-таки умолял не показывать мне белые бумажные комки. Когда мне угрожали кузнечиком, я изо всех сил сдерживал страх, приберегая крики для белых комков. Эта фальшивая фобия имела бешеный успех. Куда проще скомкать бумагу, чем поймать кузнечика. Благодаря этой хитрости, я почти избавился от насекомых. Мне приходилось притворяться вдвойне, ведь если бы я забыл «испугаться» бумаги, то был бы разоблачен. Разыгрывались целые спектакли, и в классе был такой беспорядок, что профессора забеспокоились. Они решили наказывать учеников, дразнящих меня комками, растолковывая, как преступно провоцировать меня на нервные срывы. Однако никто не внимал гуманным призывам. Как-то во второй половине дня, когда наш класс проверял Старший, я обнаружил у себя в шапке белый комок. Чтобы не выдать себя, я тут же выдал ожидаемую реакцию – заорал. Возмущенный профессор велел мне отдать комок. Я отказался. Он настаивал. «Ни за что на свете!» И охваченный внезапным вдохновением, я перевернул чернильницу. Комок стал темно-синим. Тогда, осторожно взяв бумажку двумя пальцами, я бросил ее, капающую чернилами, на профессорскую кафедру.