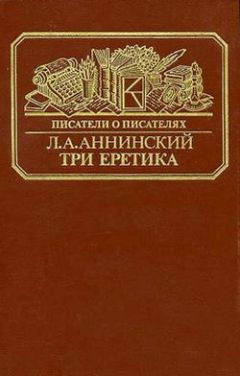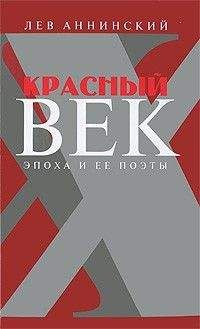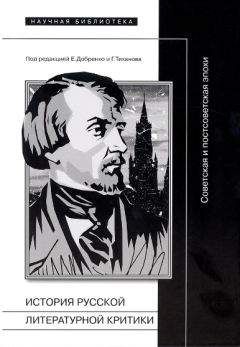Лев Аннинский - Три еретика
Однако вот и первая странность в ясном замысле. Письмо Аполлону Майкову от декабря 1853 года (перед самым отъездом из Костромы в Раменье, в самый разгар работы над первой частью): «…Начал новый и очень длинной, длинной роман… сужет долго рассказывать, я говорил об нем Панаеву, спроси, если любопытно, у него, но только выведется Литтератор не по призванию, а из самолюбия…»
«Но только…» Рука невольно выдала? Такой поворот действительно странноват для описанной расстановки сил. То, что литература для Калиновича оказывается не делом жизни, а средством самоутверждения, пожалуй, не вытекает ни из его внутреннего состояния, ни из обстоятельств его писаний. Обстоятельства переданы свежо и остро, и так же свежо передано в первой части «Тысячи душ» отчаяние провинциала, посылающего свои опыты в столичные редакции, где их наверняка «не прочтут». Здесь воссозданы автобиографические обстоятельства и настроения самого Писемского, так что оказавшийся у героя на месте вдохновения холодный расчет читательски воспринимаешь не без подозрения: он плохо мотивирован.
Читательски я впервые почувствовал в романе «брешь» именно после сцены чтения Калиновичем его повести в доме князя. «…Калинович кончил», и окружающие принялись хвалить «прекрасное чтение» и даже говорили что–то про «психологический анализ». Подробно описана реакция слушателей на повесть, но нет… понятия о самой повести.
Я подумал: Достоевский в таких случаях все договаривает. Смешной ли рассказец Кармазинова в «Бесах» или величественная «Легенда о Великом Инквизиторе» в «Братьях Карамазовых» — для Достоевского тут сердцевина действия, смысл и оправдание его. В размышлениях о судьбах России он идет по осевой линии, он рискует всем и — доходит до предела: развивает саму идею. Для него идея и есть суть. Поэтому у Достоевского нет «литераторов из самолюбия», либо в их «самолюбии» открывается призвание; здесь главное — духовная версия, а все остальное — лишь крути от нее.
Писемский разрабатывает именно круги. Провалится Калинович со своей литературной попыткой — все вокруг будут злорадствовать; преуспеет — вокруг воцарятся зависть либо деланное равнодушие. Литература для Калиновича — точка опоры, но для чего ему нужна опора — все–таки неясно. Мы видим, что это человек идеи. Но мы не видим, в чем его идея.
Сравнивая Писемского и Достоевского, двух ровесников, двух русских писателей, работавших на близком материале, двух классиков, стоявших рядом, вдруг и понимаешь, где начинается величие. Писемский не уступает Достоевскому ни в знании жизненной фактуры, ни в психологическом чутье, ни даже в интуитивном ощущении загадки, кроющейся за видимым рядом событий. Он уступает — в понимании самой загадки. Писемский плохо держит сверхзадачу. Она у него как–то не фиксируется.
Актер Иван Горбунов, «на глазах» которого, по его словам, был написан роман «Тысяча душ», оставил любопытное свидетельство о том, как шло дело. Алексей Феофилактович «писал очень скоро, но переделывал написанное очень долго».
Иными словами, когда Писемский уже находит решение какой–то сцены, то для него не составляет труда художественно «записать» решенное: чтец, артист, пластику действия он и чувствует, и передает легко. Трудность — в самом решении: в понимании характеров и судеб, в общей концепции. Здесь требуются постоянные и мучительные переделки, здесь ощущается постоянная и мучительная неуверенность.
Поэтому в романе, замечательно точном по фактуре, да и по ощущению таящейся за фактурой глубинной закономерности, — нет духовной программы, которая приближала бы нас к пониманию существа закономерности. Общий прицел все время меняется, точка отсчета все время как бы берется заново. Ощущение такое, что автор, обнаружив в духовном составе своего героя очередную новость или подмену, останавливается в некотором затруднении и начинает выверять общий план заново.
Первая такая остановка зафиксирована 1 октября 1854–го — год спустя после начала работы: Писемский окончательно решает, что в сущности его герой старается не из идеи, а ради… комфорта. Он сообщает об этом в письме тому же Аполлону Майкову. Аналогичное рассуждение в тексте романа показывает, что мертвая точка возникает у автора при начале второй части, во второй главе: «Слава… любовь… мировые идеи… бессмертие — ничто перед комфортом…» В письме тот же мотив: «…устроить себя покомфортабельнее… из частного комфорта слагается общий Комфорт… человеку, идущему… по этому пути, приходится убивать в себе самые благородные, самые справедливые требования сердца…» И в том же письме: «Длинный роман… остановился, просто лень писать, а насиловать себя боюсь…»
Насчет «лени». Писемский, может быть, и ленив, однако в чем угодно, только не в писаниях; уж он–то, в отличие от Калиновича, литератор прирожденный. Дело, видимо, в другом: роман стопорится, потому что налицо перемена общей идеи: на месте умного идеалиста оказывается умный карьерист.
Еще одна остановка — при переходе от второй части к третьей. Биографически этот переход совпадает с переездом Писемского в Петербург. Так что отъезд Калиновича из Энска в столицу в финале второй части написан под влиянием свежих чувств и впечатлений. Пауза, наступившая после этого в работе над романом, объяснена историками литературы следующим образом: Писемский–де хочет накопить для третьей части новый материал, он нуждается в общении с петербургскими литераторами.
Опыт такого общения ограничивается на первых порах кружком «Современника» при некотором влечении к «Отечественным запискам».
Полгода спустя П.Кулиш не без яду докладывает М.Погодину, что Писемский в Петербурге «везде читает неоконченный роман свои, в котором играют роль два штатных смотрителя (то есть Годнев и Калинович. — Л.А.) да переодетые журналисты Краевский и Панаев» (выделено мной. — Л.А.).
Положим, общение со столичными литераторами действительно помогает Писемскому обставить соответствующие главы. Однако он, видимо, нуждается еще в одном, внутреннем, общем решении, и это — главная причина остановки. Надо решиться сделать Калиновича… подлецом. Не просто карьеристом и искателем комфорта, нет, — теперь уже прямым подлецом, который, оставив любимую и несчастную Настеньку, женится ради денег на нелюбимой кривобокой генеральской дочке Полине. Это должен проделать тот самый непреклонный идеалист, который в свое время ворвался так светло и звонко в серую обывательскую уездную муть.
Все, что надо, он, однако, теперь проделывает: подлым образом бросает Настеньку, расчетливо женится на Полине, становится богачом и получает доступ в высшие сферы.