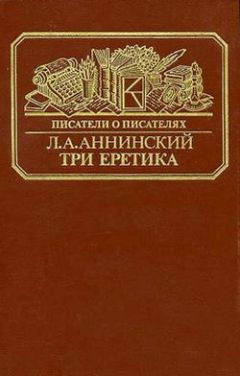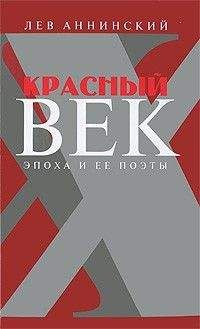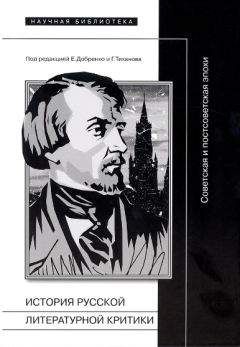Лев Аннинский - Три еретика
Поэтому надо бы поточнее определить первоначальный замысел Писемского. Последовательности от него, конечно, ждать не приходится, но само непрестанное сбивание «прицела», само это «рысканье» около курса под влиянием невидимых толчков — при интуитивной чуткости Писемского, слушавшегося этих своих внутренних толчков, — становится такой драмой, ради которой можно пожертвовать внешней ясностью. Дело в том, что пять лет, в течение которых эта работа развертывается: с 1853 по 1858 годы, — время колоссально важное для судеб России, это время именно толчков, крутых поворотов, захватывающих дух перемен. От позора Крымской войны — к либеральным реформам, от николаевского «мрачного семилетия» — к прекрасному возбуждению первых александровских лет, от привычной бездвижной тьмы — к слепящему свету и оглушающему шуму…
Летом 1853 года, как мы помним, Писемский впервые посещает Петербург. Он знакомится с литераторами, среди которых уже имеет имя и репутацию, имеет — благодаря появлению «Тюфяка» в «Москвитянине», а еще более благодаря непоявлению «Боярщины» в «Отечественных записках». Писемский принят в кругу «Современника». Он передает Панаеву только что законченный рассказ «Леший» и рассказывает план нового романа…
Реконструируя замысел романа, мы должны сделать некоторое усилие воображения. У нас есть две реальные вещи, две «оси»: во–первых, ситуация, в которой рождается замысел, и, во–вторых, сам роман, в котором замысел в конце концов реализован. Есть, так сказать, «точка», для которой мы ищем координаты, — «точка зарождения»: сам замысел, или хотя бы намек на то, что же именно рассказывает Писемский Панаеву летом 1853 года… у нас, одним словом, есть первоначальное название: «Умный человек».
Зная Писемского, можно развернуть эту посылку так: умный человек — среди плутов, хитрецов и ушлых, корыстных деятелей. На фоне «Лешего», только что прочитанного и одобренного Панаевым, можно предположить и обертона этой посылки: умный человек — это прежде всего практик. Ведь симпатичный кокинский исправник, страж законности, выведший на чистую воду Лешего, умен именно в таком, практическом плане: он человек прежде всего опытный. Он умен в том смысле, что умеет найти подход к плутам и хитрецам, а вовсе не в смысле идеала и чистоты. «Леший» — очерк о плутах и попустителях, на которых нашелся человек еще более ушлый.
Однако, зная сам роман, мы должны существенно уточнить такую версию «умного человека». Потому что, судя по результатам, задуман идеалист: честный умница, человек принципов, человек здравого смысла. Легко представить себе на исходе николаевского царствования, в столице, застывшей от молчаливого раболепия, в либеральном журнале, копящем благородное негодование против родимой азиатчины, векового идиотизма и привычной лжи, — легко, повторяю, представить себе, как звучит и воспринимается в редакции «Современника» задуманный Писемским роман о том, что за судьба ждет в российской действительности умного человека… то есть, человека честного…
Но ведь это не одно и то же — скажете вы.
А это как посмотреть. Вообще говоря, не одно и то же. Но в конкретно–исторической ситуации, когда, как Толстой говорил, плуты умеют сговариваться, а честные люди не умеют, и потому плуты торжествуют, а честные люди только жалуются, что они в этом обществе практически «лишние люди», так что ум как бы похищен бесчестьем, а глупость оставлена честности, — в этой ситуации, в противовес этой системе литература и пытается выдвинуть союз противоположный, союз ума и чести… а что из этого получится, мы скоро увидим.
Вернувшись в Кострому, Писемский запоем погружается в работу. Он пишет первую из трех предполагаемых частей романа: приезд в «энскую» глухомань свеженького выпускника университета Яши Калиновича, назначенного смотрителем в уездное училище на место доброго, радушного и бессильного старика Годнева.
Сюжетные ходы просты, как дважды два. Старик Годнев из жалости держал в сторожах ленивого и хитрого дурака — молодой Калинович враз вышибает этого бездельника из училища. При Годневе учителям все сходило с рук: и неисправность, и попустительство, и выпивки — молодой Калинович не только отказывается терпеть пьянство преподавателя истории Экзархатова, он в этом Экзархатове отказывается узнать университетского однокашника, чтобы и повода тому не дать к кумовству! О том, чтобы подарки принимать, как то от веку заведено, или в другом роде готовностью к услугам попользоваться, и речи быть не может: все это Калинович отметает сразу. При Годневе все шло складно да ладно — при Калиновиче все идет иначе: по закону и по делу. Он неподкупен и принципиален.
«Горденек немного», — замечает старик. Но и это не колеблет главного: прав в глазах автора конечно же Калинович. И решается вопрос старинным в литературе способом: любовью женщины. В тот момент, когда дочь старика Годнева Настенька отдает сердце Калиновичу — этому реформатору, камнем павшему в родное уездное болото, этому идеалисту, не терпящему привычной дури, — в сей момент сюжетная задача первой части романа и решается однозначно: Калинович — воплощение всего лучшего, что входит в русскую жизнь с новым поколением: с его культурой, с его нравственной дисциплиной, с его университетскими идеалами…
А ведь по существу — перед нами опровержение «Тюфяка». Перекличка налицо: там сосватали, окрутили, охмурили умника Бешметева — и тут в известном смысле «окручивают» умника Калиновича. И там, и тут сватовство. Но контраст! Там был — «тюфяк»: поддался, сдался… спился. Умный, а слабый. Этот — прочен. Этот не поддается, этот сам все решает. Он и избранник–то потому, что он лучший. Умный и сильный. Настенька ему — награда. Другая награда — литературное признание. Писательство, которому тайно, на досуге, предается молодой интеллигент, — знак его явной духовной отмеченности. На этом и выстроена первая часть. Появление повести Калиновича в одном из самых серьезных столичных журналов — финальный апофеоз. Фурор в «энском» городке — «наш смотритель печатается!» — вместе с любовью Настеньки это уже двойной апофеоз, апофеоз честной молодой России, вызревшей в темных недрах николаевской реакции и вот теперь вышедшей на свет и готовой сказать свое слово…
Однако вот и первая странность в ясном замысле. Письмо Аполлону Майкову от декабря 1853 года (перед самым отъездом из Костромы в Раменье, в самый разгар работы над первой частью): «…Начал новый и очень длинной, длинной роман… сужет долго рассказывать, я говорил об нем Панаеву, спроси, если любопытно, у него, но только выведется Литтератор не по призванию, а из самолюбия…»