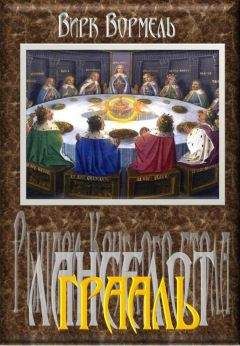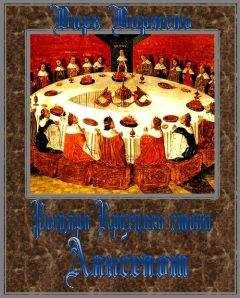Юрий Штеренберг - Истории, связанные одной жизнью
Через несколько дней, в самом конце февраля, папа заболел. Он слег в постель, температура была высокой, но первоначально он чувствовал себя терпимо. Он жаловался на спину, которая действительно была воспалена, как выяснилось потом, это было рожистое воспаление. Врачи госпиталя и, прежде всего, доктор Кобзев — он считался хорошим специалистом, отнеслись к папиному заболеванию несерьезно, с шуточками, без должного внимания. Я же, как идиот, продолжал ходить в школу. И вот, однажды, возвращаюсь из школы, и мама с плачем мне говорит: “Папа умирает, а ты зачем-то ходишь в школу”. Врачи засуетились, выяснилось, что помимо рожистого воспаления у папы еще крупозное воспаление легких и, как следствие, заражение крови — сепсис. Сказали, что может помочь новое средство, кажется, пенициллин, но в нашем госпитале, работающем госпитале, его не оказалось. Однако выяснили, что примерно за 5-7 км от нас, в больнице поселка Орджоникидзе, есть это лекарство, но почему-то нет свободного транспортного средства для его доставки. Я выскочил на дорогу и побежал. Задыхался, но бежал, туда и обратно. Мне казалось, что чем мне будет труднее, тем папе будет легче.
В ночь с четвертого на пятое марта папа подозвал всех нас и бессловесно попрощался. Может быть, мне показалось, но он особенно долго смотрел на Инну. Ночью мы все трое слушали его дыхание и пытались дышать в его ритме, но это было невозможно. Утром 5 марта папа умер.
В Средней Азии весна очень ранняя. На следующий день после похорон, 8 марта, мы пошли на могилу. Все поля, что мы проходили, было кроваво-красными — цвели маки, тогда с ними еще не боролись. Похоронили папу на небольшом холме, не очень близко от дороги. Там было еще десятка два-три могил, в основном узбеков. Через несколько дней могилу обложили кирпичом и залили цементом. На другое в то время рассчитывать было нельзя.
Жизнь в Ташкенте
В конце апреля 1943 наш госпиталь получил новое назначение. Госпиталь направлялся в только что освобожденный Сочи, самое экзотическое место в России6. К этому времени немцев уже выгнали с Кавказа, и настроение было победное.
Задним числом мы теперь знаем, что радоваться было еще рано — ведь стояла только весна сорок третьего. Папы уже не было, но, тем не менее, начальство госпиталя пригласило нас вернуться в Россию вместе с госпиталем. Мы подумали и почему-то решили остаться. Как ни странно, но таково было и мое мнение. Несмотря на мой авантюрный характер, несмотря на отказ от возможности жить у моря, несмотря на необходимость расстаться с моей госпитальной и школьной подружкой Галей.
Маме помогли устроиться зубным врачом в дом отдыха в Кибрае, в том самом поселке, куда я несколько последних месяцев ходил в школу, в девятый класс. Кстати, начальство госпиталя договорилось с директором этой школы о том, чтобы всем отъезжающим ребятам, и мне в их числе, разрешили сдать экзамены за текущий год досрочно. Понятно, что серьезность этих экзаменов была такой же, как и само обучение.
Прежде чем окончательно расстаться с госпиталем, я хочу немного рассказать о некоторых его сотрудниках, а также о моих сверстниках, с кем мне пришлось прожить бок о бок, причем, в полном смысле этого слова, первые полтора года войны. Всего полтора года, но зато какие.
За полтора года сменилось три начальника госпиталя. Выезжали мы из Ростова и первый раз оказались в Средней Азии с Израилевичем, достаточно молодым и красивым человеком. Вместе с ним были его сын и “официальная” любовница, Дора. Сын Израилевича был старше меня на два-три года и, как мне помнится, по приезде в Джуму очень скоро был взят в армию, в военное училище. Отъезжали мы на Запад уже с другим начальником, военврачом 1-го ранга Рутенбергом. Рутенберг пробыл у нас начальником тоже недолго, несколько месяцев. Человек он был суховатый, но оставил о себе добрую память.
Следующим начальником была назначена врач нашего госпиталя, Ольга Георгиевна Хитарян. Ольга Георгиевна была внимательным и доброжелательным человеком, совершенно не кичилась своим начальствующим положением. Она с большим уважением относилась к папе, и именно она предложила нашей семье вместе с госпиталем переехать в Сочи. Из врачей я помню Балабанова, Блажевича, Степанову, Давидович и чету Кобызевых, Анну Митрофановну и Алексея Степановича, и фармацевта Пашинцеву, которая после смерти папы стала начальником аптеки. Еще я помню Андрея Хатламаджиева, он всегда был “особой, приближенной” к начальству, Леню Прждецкого — парикмахера, и повара Петю. Леня и Петя были большими друзьями не только во время их работы в госпитале, но и в первые годы после войны. Рассказывают, что Петя не смог пережить смерть Лени, которого якобы отравили.
Наверное, я вспомню не всех ребят, но остальные меня простят. Из девочек это были Ада Кобызева, Галя Василенко и Наташа Блажевич, из мальчиков - Вова Ткаченко, Саша Давыдович и Витя Степанов. Мама Гали была высококвалифицированной медицинской сестрой, и так получилось, что именнно она ухаживала за моим отцом в последние дни его жизни. Вова был сыном комиссара госпиталя, батальонного комиссара второго ранга Николая Ивановича Ткаченко, второй фигуры в госпитале. Когда представлялась такая возможность, то все мы ходили в школу. Мы с Галей учились вместе - я уже рассказывал о том, что значит “учились” - в восьмом и девятом классах, остальные - на класс младше, но были случаи, когда мы все сидели в одном помещении и слушали одного преподавателя. Нельзя сказать, что между всеми нами, ребятами, были постоянно дружеские отношения, но мы и не враждовали, во всяком случае, из-за девочек.
Никогда не забуду, как на второй или третий день после смерти папы Вова Ткаченко пришел ко мне и предложил пойти прогуляться в колхозный сад. Стояла весна, на некоторых деревьях появились первые листочки, но птиц уже было много. Володя лезет в карман, достает пистолет, браунинг, и говорит: “На, постреляй”. Нетрудно себе представить, что значит для мальчишки подержать в руках боевое оружие, а тем более из него стрелять. Конечно, эта прогулка имела некоторый психотерапевтический эффект и, как я потом понял, ее инициатором был отец Вовы.
Теперь о взаимоотношениях с девочками. С Галей мы познакомились еще на барже, вместе с Сеней, она нам очень понравилась, и мы с ним вдвоем начали за ней ухаживать. Потом выяснилось, что мы с Галей будем видеться часто или даже постоянно — мы оказались связаны одним госпиталем. Однако Ада мне тоже нравилась, может быть, вначале даже больше, чем Галя. Особенно после того, как она, когда наши две семьи оказались на одной полке теплушки, потребовала, чтобы ее уложили рядом со мной. Ада была волевой девочкой, и родители обычно “слушались” ее беспрекословно. Правда, ее мама, Анна Митрофановна, пару раз провела рукой между нами, проверяя, естественно, нет ли каких либо недозволенных контактов. Однако, к моменту расставания, Галя у меня все же вышла на передний план и, судя по всему, это было взаимно. В первом письме, которое она отправила в пути, еще не добравшись до Сочи, было написано (я запомнил эту строчку, потому, что тогда она была мне очень дорога): “Наши девушки часто поют «Он уехал, а слезы льются...»А у меня слезы льются потому, что он остался”.