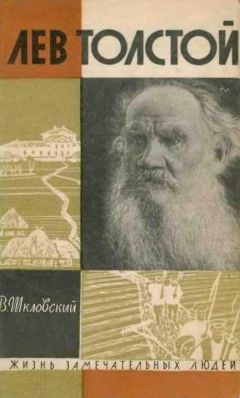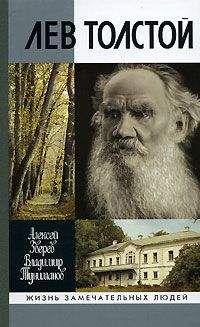Михаил Новиков - Из пережитого
Не раз и не два, чтобы лучше понять это противоречие истории и науки, я брался за «Капитал» К. Маркса, с упрямством перечитывал его более ясные страницы, но, как и Библию, всего так и не одолел. Уж слишком сухою материей казались мне открываемые им истины.
Но работа, или, как говорят, эволюция мысли, шла своим чередом, захватывая в поле зрения все более широкие горизонты, открывавшиеся в это время. Я радовался своему положению штабного писаря; радовался своей семье, которая была в это время в деревне и которой я мог помогать 3–4 рублями в месяц; радовался своей возможности учиться, ходить по монастырям, музеям и соборам, возможности видеться с Толстым, и — вдруг наступило что то другое, темное и неожиданное, что сразу перевернуло все мои возможности, переменило место моего жительства и столкнуло с совершенно новыми людьми и в новой обстановке.
Глава 14
Подготовка к коронации
Началось с того, что все газеты разом заговорили о предстоящем в мае 1896 года Всероссийском торжестве коронования Николая II. Еще зимою начались приготовления, переписка, исполнение заказов на цветные материи и т. д. Строевое отделение штаба, в котором я находился, завело несколько специальных дел по коронации и вело большую работу по учету частей войск как московского, так и других округов, которые должны были прибыть на коронацию. Велась и большая переписка с гражданскими властями организационного характера с представлением смет и расходов по устройству декораций, площадок, украшению улиц и т. д., из которых я видел только одно, что собираются творить пир на весь мир, чтобы ухлопать такую уйму народных средств, собравши которые, надо было оголодить 10–15 губерний. Не понравилась мне эта затея с такими расходами, и, как домовитый крестьянин, я стал к ней в оппозицию, осуждая вслух эти приготовления. Откуда взялся слух не знаю, но слух этот называл цифру в 47 миллионов рублей, которую собирались истратить на это торжество. Как было примириться с этим крестьянину, зная, что в деревнях на эти затеи, под угрозами наказаний, выколачивают оброки? Я не мирился, высказывая вслух свое суждение, об этом же я писал и в письмах к родным и знакомым. Но, по счастью, все это сходило с рук до поры до времени, и несчастье пришло с неожиданной стороны. Еще почти за год до этого мой брат Иван, живший в Туле на фабрике, по моему письму познакомился с Толстым в Ясной Поляне и время от времени ходил туда за книжками (так называемыми запрещенными). Дочь Льва Николаевича, Марья Львовна, установила с ним соглашение, чтобы он мог брать такие книжки в самой Туле, у некоей Холевинской, бывшей, кажется, врачом на патронном заводе, о чем она ей и написала. За этой «либеральной женщиной» — как о ней говорили в Туле, — как и водилось в то время, была усиленная слежка жандармского управления, которая в конце концов кончилась ее высылкой в Астрахань, где она, как было слышно, умерла. В начале апреля этого года у нее был обыск, при котором было найдено это письмо Марьи Львовны, по которому, в свою очередь, охранка произвела обыск и у моего брата и захватила мое письмо с осуждением коронации. Была Пасха, я из штаба приехал в отпуск в деревню, и в это-то время жандармы в сопровождении прокурора, исправника и станового, рано утром нагрянули к нам в деревню и, как водится, перерыли у нас все сундуки, чердаки, книги и даже навоз и нагнали страху не только на нашу семью, но и на нашу деревню. При обыске нашли самую страшную книгу Льва Николаевича «Царство Божие внутри вас» и маленькую брошюрку крестьянина Бондарева «Торжество земледельца» с моими на ней пометками и приписками. Моя мать стала топить печку, но ей запретили, и она все время вслух ворчала на них, угрожая горячей кочережкой. До обыска в деревне московские жандармы явились с обыском в штаб, но меня там не было, а начальник штаба генерал Духонин, очень обиделся на них и не разрешил делать обыска в помещении. В деревне, ознакомившись с моим отпускным билетом, жандармы меня не арестовали, но когда я приехал в штаб, там меня уже ждали и тотчас же заперли в карцер. На другой день приказали сдать все дела по отделению и взяли на допрос к генералу Бутурлину (он был для поручений при командующем округом Костанде), допросом устанавливалось мое знакомство с Толстым, с очень умным, но и опасным, по выражению генерала, человеком. При таком дружеском допросе я осмелился сказать, что Толстой учит только добру и ничего в нем худого нет.
— Это мы знаем, — сказал мне генерал, — но государство живет не добром, а солдатчиной и налогами, а Толстой не признает ни того, ни другого, а от его доброй жизни нет никакой пользы. Умен-то он умен, да для нас-то его добро не годится, он просто с ума сошел, и его надо было давно посадить в желтый дом, чтобы от него не сходили с ума другие. Вот как ты.
Ни о чем другом на допросе меня не спросили.
Снова на другой день за мной приехали жандармы и в темной карете с темными занавесками увезли меня на допрос в жандармское управление.
Здесь предъявили обвинение в оскорблении Величества и в осуждении коронации. — «Как ты смел, будучи на военной службе, осуждать намерение Государя возложить на себя корону? — говорил мне участвовавший при допросе прокурор. — Тебе стыдно, ты русский, и притом солдат и православный.
Оправдываясь, я говорил, что против самой коронации я ничего не имею, но что расходы велики и не нужны.
— Что же, по-твоему, царь-то пешком что ли должен в Москву прийти и гостей с собой не позвать? — упрекал меня жандармский полковник.
Я сказал, что на билет не много надо, а что гости тоже за свой счет могли бы приехать. А то вот, говорил, газеты трубят: торжество, торжество! а небось, с крестьян не сбросят пятачка из оброка на это торжество. 47 миллионов пойдут в 47 карманов, и для них будет настоящее торжество, а крестьяне, как говорится в сказке, там были, мед пиво пили, но по усам текло, а в рот не попало. Какое же для них торжество? Надо было, говорю, объявить ради коронации сложение налогов в счет этой траты, тогда бы и крестьяне радовались, а то радость, радость, а радоваться нечему.
Такому моему рассуждению начальство не придало значения и не обиделось, наоборот, повеселели и стали между собою смеяться, а прокурор сказал:
— Вот если бы такие мысли у наших министров были, тогда бы нам и займов не надо делать, а когда они у мужика, да еще у солдата, дело совсем плохо, министр Ванновский не похвалит такого солдата.
Другой жандармский офицер сказал:
— У нас, слава Богу, Государь самодержец, и ему не надо у мужиков спрашивать, куда и на что деньги тратить. Россия только и жива самодержавием, а не станет у царя этого права, нас и вороны-то заклюют и по косточкам растащут. С таких, как этот, — кивнул он на меня, — спросить нечего, он ничего в политике не понимает, а вот когда господа дураками прикидываются и таким темным сочувствуют, этим никак простить нельзя.