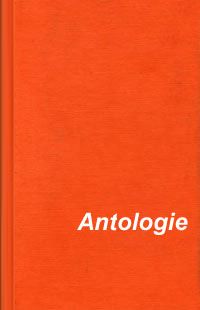Афанасий Коптелов - Возгорится пламя
— Эльвиру Эрнестовну подняли почти бездыханную, — продолжал Старков. — Боялись за ребра. Спасибо Тончурке, — она как фельдшерица успокаивает: на перелом не походит. А больная все лежит пластом.
— Так надо же в больницу.
— Сейчас ей не вынести дороги. Решили обождать. Тончурка уволилась с работы еще недели за три до своего несчастного разрешения и теперь не отходит от матери.
За столом Владимир Ильич наполнил рюмки малиновой настойкой, приготовленной Елизаветой Васильевной, и вернулся к началу разговора:
— Значит, ты в степи, на соляном озере? И хорошо там у тебя?
— Солнце палит нещадно. Приезжай, Володя! Приглашаю для твоего же интереса. За нашим озером есть деревенька с довольно странным названием — Иудино…
— Так, так, — поторапливал Владимир Ильич, заинтригованный рассказом. — Я слышал о такой деревне. Говорят, там, как в Туркестане, искусственное орошение полей. Проведено местным крестьянином Тимофеем Бондаревым.
— Удивляюсь, Володя, откуда ты все знаешь?
— Ну, что ты?! Далеко-далеко не все. Многое не знаю, — не хватает времени, но о Бондареве доводилось слышать. Деревенский публицист, искатель правды. Человек толстовского толка в некоторой степени.
— Да, переписывался с самим Львом Николаевичем! Тебе бы интересно поговорить с этим крестьянином. О его основном труде мне там рассказывал один ссыльный.
— «Торжество земледельца, или трудолюбие и тунеядство». Так? Хорошее название!
— А я-то думал — удивлю рассказом. Трудолюбие Бондарева исключительное. В рукописи двести страниц, а он снял с нее чуть ли не десять копий!
— Послал царю, губернатору, Глебу Успенскому, Льву Толстому, в музей Мартьянову.
— Вот это толково! Буду в Минусинске — почитаю. Николай Михайлович разрешит.
— Не зря я разговор завел… А последний экземпляр старик завещал положить с ним в гроб.
— Разве он умер?
— Живой. Прошлой зимой, рассказывают, еще ребятишек учил. Школа у него вроде подпольной. Нагрянут власти, закроют, пригрозят, а уедут — он опять за свое. Пособия у него в классе: соха, лопата…
— Это по твоей части, Надюша. Интересно?
— Очень. Посмотреть бы самим.
— …борона, топор, — продолжал перечислять Старков, пригибая палец за пальцем, — хлебное зерно, серп, квашня…
— Даже квашня?!
— Девочки учатся хлеб выпекать. А на уроки географии он приглашает солдата, участника освобождения Болгарии, и матроса, плававшего вокруг света. Лоцман-плотогон у него рассказывает о порогах на реке Абакан.
— Умный старик, — сказала Надежда. — Использует все, что может.
— Нынче, говорят, плох. Недолго протянет. Но я отвлекся. По описанию ссыльного, Бондарев сверхоригинально преуготовил себе могилу. На двух каменных плитах, как древние люди на своих стелах, зубилом вырубил заглавия: «Памятник» и «Завещание». А ниже — два большущих послания потомкам! Я записал выдержки. — Старков достал тетрадь. — Слушайте: «О, какими страшными злодеяниями и варварствами переполнен белый свет! По всей России всю плодородную при водах землю, луга, леса, рыбные реки и озера, все это цари от людей отобрали и помещикам да миллионерам и разным богачам отдали на вечное время. А людей подарили в жертву голодной и холодной смерти».
— Гневное и страстное обличение!
— А вот на второй плите: «Все это я пишу не современным мне жителям, а тем будущим родам, которые после смерти моей через 200 лет родятся». И дальше: «Да неужели ты, главное правительство, способно только одних здоровых овец пасти, это помещиков и подобных им, а слабых овец оставлять на съедение кровожадных зверей?..»
— Давно известно, что способно.
— И Бондарев заканчивает на своей плите: «Вот как я 22 года ходатайствовал перед правительством о благополучии всего мира… Вот так сбудется реченное: да снийдите во гроб, как пшеница созрела, вовремя пожатая. Прощайте, читатель, я к вам не приду, а вы ко мне придете». Рядом с плитами поставил столик и завещал положить в него свою рукопись. Пусть приходят люди и читают на могиле.
— Да, страстные слова! Глубоко верные. И смелый он человек, этот деревенский обличитель. Повидать бы его. А вот авторская надежда, что потомки прочтут каменные послания, несостоятельна. Полиция от тех плит не оставит ни крошки. Но дело не только в этом! Через двести лет такое обличение не понадобится. Даже через двадцать. Оно останется, как историческое обвинение мучителям, заколоченным в гроб. Об этом теперь есть кому позаботиться.
На лодке плыли через Шушенку. Владимир Ильич сидел на корме, смотрел в синюю воду. С каждым взмахом его весло разбивало звезды, как белые кувшинки.
Половинка луны висела ярким фонарем, высветляла дорожку среди кустов.
По ней прошли в луга. Долго смотрели на остроглавые вершины Саян с их бесчисленными снежными гранями, залитыми лунным светом.
— Так, говоришь, напоминают Монблан, на который ты смотрел из Женевы? — спросил Василий, вспомнив об одном из писем Ильича. — Хорошо там, в Альпах?
— Природа роскошная. Я ехал из Вены через Зальцбург, родину Моцарта. Сразу за этой станцией дорога врезалась в высокие горы, вот так же покрытые вечными снегами. У самой насыпи лежали голубые озера. Я до Женевы не отрывался от окна. Обворожительные пейзажи, чистенькие, прибранные поселки, цветы. Но — не дома. Это чувство все время дает о себе знать, и я не променял бы олеографическую Женеву на Питер, на нашу Волгу. По Швейцарии хорошо проехать, посмотреть, отдохнуть, а жить и работать там русским нелегко.
— Плеханов тяготится?
— Он прожил за границей уже восемнадцать лет и, кажется, привык. Стал европейцем в полном смысле слова. А вот нам на первых порах будет…
Владимир взглянул на Надежду. Она отозвалась:
— Ничего, Володя, нам недолго.
— Конечно, недолго.
— После ссылки поедете в Швейцарию?
— Непременно. В России, сам понимаешь, невозможно издавать партийную газету. Все попытки оканчиваются провалом. Один-два номера и — разгром. А нам нужна постоянная боевая политическая газета.
— Мне Глеб рассказывал о твоих планах. Я одобряю, и ты, Володя, можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку. А название придумал?
— Пока напрашивается одно, — я даже Наде еще не успел сказать, — «Искра». Как по-вашему?
— Чудесно, Володя! Ясное, светлое название, с прекрасной символикой. И мне нравится, что тут подчеркнута преемственность этапов революционного движения. От декабристов идет.
— Мы и эпиграфом поставим: «Из искры возгорится пламя». Твое мнение, Базиль?

![Афанасий Коптелов - Дни и годы[Из книги воспоминаний]](/uploads/posts/books/50636/50636.jpg)