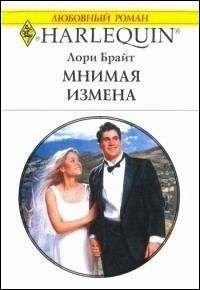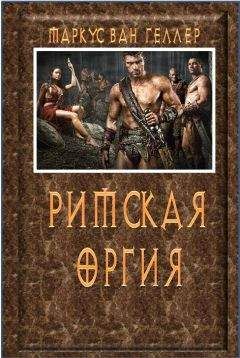Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
«Передайте Сергею, что я крепко обнимаю его и очень прошу его никому и никогда более не давать таких скверных советов, какой он дал сейчас мне. Ужасно рад, что устроились сношения с вами, дорогой друг. Я здоров. Обвиняют меня в тайном обществе и пропаганде у Писарева. Я отказался отвечать на все вопросы о моей деятельности, а на вопрос, знаком ли с Алексеевой и другими, отвечал, что не знаком ни с кем. Так буду говорить и до конца. Даже если б кто и говорил, что знает меня, буду говорить, что я его не знаю. Ваше письмо дошло до меня заклеенным, без признаков расклейки».
Затем я обозначил день и час, когда я его получил, и прибавил, что если она мне сообщит, что это исключает возможность копирования, то в следующий раз напишу более. Все это было сложено в маленький, как две почтовые, приложенные друг к другу марки, пакетик, заклеено черным хлебом и им же прилеплено к дну моей кружки, которая и была унесена в следующее утро служителем.
Тем временем я уже успел заучить на память присланный мне шифр и уничтожить письмо Батюшковой, разжевав его по частям в бумажное тесто.
Вечером я снова осмотрел дно поданной мне кружки, но на нем ничего не было. Весь следующий день прошел в томительном ожидании ответа, но к вечеру глаза служителя, подававшего мне кружку, опять завращались колесом, и новая записочка оказалась тоже приклеенной черным хлебом к ее дну.
В ней были самые нежные приветствия от Наташи Армфельд, от ее брата и от барышень Панютиных. Они были всем, что осталось теперь в Москве вместе с Батюшковой от нашей прошлогодней дружеской компании.
«Мы хотим попытаться вас освободить, — писала она мне, между прочим, — и уже поручили это дело одному не знакомому вам молодому человеку, очень преданному, Цвиленеву. Он хочет приискать лошадь, на которой вас можно было бы быстро увезти от ворот. Напишите заявление в Третье отделение, что чувствуете себя нездоровым, и просите разрешить вам прогулки по двору».
Разобрав эту шифрованную часть письма, я в волнении начал бегать из угла в угол камеры. Итак, я совсем не забыт друзьями на воле! Они настолько меня любят, что выбрали первым для освобождения, хотя в Москве сидит столько народу, более серьезного и опытного, чем я! Собственно говоря, я должен бы был решительно и окончательно сразу же отказаться на этом основании, но у меня не было сил.
В своем ответе я рассказал им свои прежние планы побега: и план в виде огнедышащего черта с бумажным пакетом от сахара вместо рогов на голове, и план табачный. Я соглашался, что извозчик, приготовленный на площади, был бы большою помощью для меня, но все же скрепя сердце спрашивал друзей, не находят ли они, что его лучше применить к кому-нибудь более важному, чем я?
С тревогой и замиранием сердца я принял через день ответную записочку, опасаясь, что вдруг друзья согласились с моим мнением, но, расшифровав наполовину, я убедился, что ничего подобного нет и что на специальном совещании было решено освободить прежде всего именно меня, а затем при моем участии и других.
Это было страшно радостно!
Я написал им теперь длинное письмо, где рассказывал свои впечатления за границей и в заточении; потом со следующими почтами настрочил второе, третье. Письма мои все разрастались, и, как оказалось, их читали не только мои друзья, но все новое юное поколение, заменившее нас теперь в революционной деятельности, хотя большинство из нас, заключенных, были еще «юношами».
Да, все свежее, живое в русской общественной жизни создавалось тогда исключительно детьми, потому что их родители, как справедливо выразился когда-то Кукушкин, почти поголовно были «непонимающие».
В нашей среде было мало достигших гражданского совершеннолетия и еще менее переваливших через него хотя бы на четыре года. Да и не могло быть, так как срок нашей активной жизни до ареста редко превышал четыре или пять месяцев. Наши поколения сменялись быстро: тот, кто прожил год, считался уже ветераном. Таким неожиданно для себя оказался и я для новой, выступившей теперь на арену молодежи.
Не прошло и двух недель со времени начала моей переписки, как меня предупредили, чтобы я каждый день сидел на окне у самой решетки между пятью и шестью часами вечера, так как по тротуару площади передо мною будут ходить некоторые из моих знакомых и друзей, чтобы посмотреть на меня в темнице.
И действительно, в назначенный срок в тот же день на тротуаре появились, парочками и по трое вместе, не менее восемнадцати человек молодежи, три четверти из которых были женского пола. Идя по направлению ко мне, они махали мне белыми платочками, как только отворачивались городовые и пожарные, стоявшие у моих ворот, и разошлись с площади только вечером, в половине шестого.
Понятно, что они обратили на себя внимание служащих в части, но те были еще слишком неопытны, чтобы усмотреть какое-либо соотношение между моим, никому не интересным с их точки зрения окном и этими непривычными здесь любителями и любительницами чистого воздуха. Ведь вспыхнувшее позднéе пламя тогда еще только что разгоралось. Наши преследователи еще не успели его раздуть своими гонениями во всепожирающий пожар и обратить на него всеобщее внимание желающих и нежелающих, возбуждая в одних стремление нам помочь, а в других — суеверный ужас перед нами.
Так продолжалось и в следующие дни, а по воскресеньям здесь бывало настоящее гулянье.
Я еще издали прекрасно отличал наших барышень от обыкновенных девушек по какой-то одухотворяющей поэзии, как будто окружавшей их фигуры, и в особенности по эластичности их движений.
Обычные барышни казались перед ними совершенно вялыми: они ходили несравненно медленнее наших, какими-то мелкими неровными шажками и оставляли впечатление физической недоразвитости и беспомощности.
«Вот идет наша!» — говорил я, сидя у окна и видя смелую грациозную походку, и в подтверждение моей догадки из ее кармана появлялся белый платочек, которым она с беззаботным видом махала мне взад и вперед несколько раз.
Одновременно с этими развлечениями подвигалось и дело моего освобождения.
Я уже получил разрешение на прогулки, и меня выводили на дворик моей части от трех до половины четвертого днем под наблюдением двух жандармских солдат, становившихся с одной и другой стороны дворика, и солдата-часового, дежурившего с незаряженным ружьем у дверей здания; пожарный же стоял у раскрытых ворот двора, имея, как и всегда, беззаботный вид.
«Не мое дело!» — казалось, говорил он, при взгляде на меня, всем своим видом.