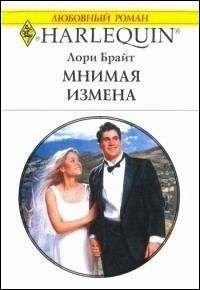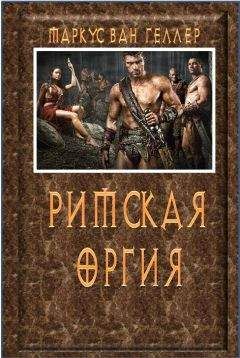Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
— И вы верите? — спросил я.
— А как же не верить, когда это правда, и весь наш корпус знает!
— А как же у вас другие умываются?
— Не из кувшина, а из глиняного таза; в него нельзя нырнуть!
— Ну так дайте мне ваш таз.
Мне подали, и я начал умываться, причем унтер стал прямо за мною с явным намерением схватить меня за ноги, если я вдруг нырну головой в этот таз.
Какие идейные разговоры могли быть с подобными сторожами?
Я мог только заключить, что мы, т. е. новые люди, арестовывать и хранить которых от постороннего глаза заставляли их, служили им неоднократно темой вечерних разговоров в жандармских казармах, а отбираемые от нас брошюры и прокламации считались ими прежде всего за чернокнижие.
Конечно, этот первый туман, происшедший от неожиданности нашего появления в России, должен был рассеяться рано или поздно, как и в привилегированных классах должен был постепенно померкнуть тот карикатурный образ, которым воображение не знающих нас людей на усладу себе заменяло наши реальные личности.
Но когда все это произойдет — вот вопрос первостепенного значения, разрешить который, хотя бы и приблизительно, я тогда еще не мог.
Второй унтер, украинец, был несколько грамотнее, но и он держался того же мнения, что через кувшин возможно нырнуть в Москву-реку, зная «надлежащий наговор». Оба, кроме того, были страшные сквернословцы и всякую тему разговора сводили на анекдоты порнографического характера.
Я вскоре совершенно разочаровался в своей первоначальной мысли выяснить им наши истинные цели и стремления, тем более что сразу было видно, что они не поверили бы ни одному моему слову.
Больше всего, конечно, интересовали меня мои соседи по заключению. Нас было здесь четверо.
Один сидел в особом коридоре, направо от лестницы, ведущей к нам, и как раз против него помещался в коридоре столик и скамья, где сидел унтер и лежали свободные от дежурства жандармы.
Я слышал, что этот товарищ по целым часам разговаривал с ними через окно своей двери, но сам я не мог войти с ним в сношения при таких условиях. Налево же от меня сидели еще двое, как я тотчас заметил по отпиранию дверей, когда им приносили лампы и обед.
В первый же вечер я попробовал стучать своему соседу, но он не отвечал мне совсем.
«Он, видимо, еще не доверяет, — думал я, — может быть, считает подсаженным соглядатаем».
Желая приручить его, я выждал, пока нам принесли лампы. Когда все успокоилось, я встал перед своими дверями у окошка, которое, как я уже говорил, было величиной в полный лист писчей бумаги и перегорожено железным крестом.
Световое изображение этого окна отчетливо обрисовывалось на противоположной глухой стене полутемного коридора, когда лампа горела на моем столе у противоположной стороны моей комнаты. Такое же изображение в коридоре почти в шести шагах от моего получалось и от камеры соседа. Мне видно было, как мелькала на нем по временам его тень, когда он ходил из угла в угол, а на световой фигуре моего окна, когда я встал между ним и лампой, получилось изображение моей головы. Но вот и тень моего соседа смотрит в коридор. Я сделал ей пальцами рожки и увидел на тени, что такими же ответила мне и она. Я приставил рожки к своему затылку, и на моей тени получилось изображение чертика. Такое же появилось и на его тени. Я тогда подошел к стене и снова стал ему стучать по первобытному способу, отсчитывая буквы, но он не понимал и отвечал мне простой музыкой, как и я когда-то Кукушкину. Думая, что на следующий день он догадается, я повторил стук, но он все еще не понимал. Хотя я и бился с ним целых три дня, делая однообразные удары, однако ничего не выходило, кроме музыки с его стороны.
«Как бы внушить ему эту простую идею?» — думал я.
На столе у меня появилось к тому времени несколько оберточных бумаг, так как в Москве в это время отпускали на пищу политическим заключенным по двадцати пяти копеек в день и, кроме обеда, который приносили нам из кухмистерской за пятнадцать копеек, можно было покупать что угодно на остальные десять, и все купленное приносили в бумаге.
«Попробую из них сделать буквы "А", "Б", "В", — подумал я, — и покажу ему на тени окна».
Так я и сделал. Показав ему букву «А», я тотчас же бросился к стене и стукнул ему раз, он тоже подскочил и начал свою музыку. Не отвечая ему, я опять подошел к окну, дождался, пока ему надоело барабанить и тень его головы снова показалась в световом отверстии. Я тотчас показал ему «Б» и, бросившись к стене, стукнул два раза... Он опять ответил мне простой музыкой. Так продолжалось и далее без помехи со стороны часового, который в это время рассказывал какой-то порнографической анекдот своим товарищам, громко хохотавшим после каждой его фразы. Я положительно приходил в отчаяние от недогадливости своего соседа, не понимавшего ничего даже и после того, как я раза по три показал ему весь свой набор первых букв азбуки, выстукивая в стену номер каждой буквы.
Так, ничего не добившись, я и лег в эту ночь на свою соломенную постель с такой же подушкой и коротким войлочным одеялом, не закрывавшим всего моего тела. Но вот следующий день принес наконец свой результат.
Как только наступил вечер и стало смеркаться, я с радостью услышал, как мой сосед уже равномерно выстукивает мне буквы.
Первой буквы я не разобрал, но из двух остальных вышло: «...то».
«Значит, — подумал я, — он спрашивает: кто я?» И, не дожидаясь дальнейшего, я начал выстукивать ему свою фамилию. Он, очевидно, сбился, так как опять повторил свое «кто», но на второй мой стук последовало с его стороны молчание.
Тогда я сам спросил его:
— Кто?
— Рабочий Котов, — последовал ответ.
— За что? — спросил я.
— За политику. А вы?
— Тоже.
Этим и ограничились наши разговоры в первый вечер.
В следующие три дня мы сообщили друг другу некоторые подробности о себе; из рассказанного им единственно интересным было то, что на допросах из опасения подписывать протоколы он объявил себя безграмотным.
Через неделю его увезли, и я остался с этого времени совершенно изолированным.
Единственная вещь, которую я потом услыхал о Котове, была не в его пользу. Мне говорили, что он назвал тех, которые дали ему запрещенную книжку, и потому его быстро выпустили.
И вот начались для меня недели полного и абсолютного одиночества, без соседей, без книг. Воображение сначала вновь стало строить свои романы, но все они были односторонни и сводились к мрачным картинам окружающего насилия и в конце концов к одной и той же навязчивой мысли — к побегу.