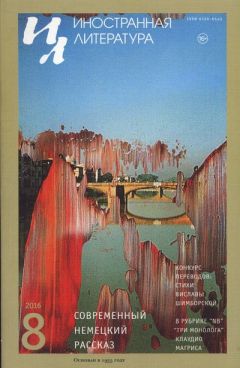Ханна Кралль - Опередить Господа Бога
«В связи с безнадежностью положения, чтобы не попасть к немцам в руки живыми, Арье Вильнер призвал повстанцев покончить жизнь самоубийством. Первым Лютек Ротблат застрелил сначала свою мать, а потом себя. В убежище погибло большинство членов Боевой еврейской организации с ее руководителем Мордехаем Анелевичем во главе».
После войны пан Генрик (сперва у него была авторемонтная мастерская, потом такси, а потом он работал в транспортной системе в должности инженера) часто размышлял о том, правильно ли он поступил, позволив другу уйти. В деревне Юрек бы наверняка подлечился, набрался сил… «Но опять же, если б выжил, не был ли бы он на меня в обиде? Скорей всего не мог бы мне простить, что остался жив, и вышло б еще хуже…»
Из тетради Юрека ВильнераНу что ж, придется еще немного…
Вечно мне кто-нибудь все испортит,
петлю перережет.
Вчера уже смерть у меня побывала,
сердце стучало все реже,
кровь остывала.
Мне ложку подносят,
ложечку жизни.
А я не хочу, не могу это пить,
меня сейчас будет тошнить.
Я знаю, что жизнь — это полная чаша,
а мир наш прекрасен и добр,
но жизнь больше кровь мою не согревает,
она только в голову мне ударяет.
Спасает других, а меня убивает…
— Я написал ему в гетто письмо, — говорит «Вацлав», адвокат Волинский. — Что писал, уже не помню, но слова были теплые. Такие, которые страшно трудно писать.
Я очень тяжело пережил его смерть. Так же, как и смерть каждого из этих людей.
Таких достойных.
Таких героических.
Таких польских.
После Юрека Вильнера представителем ЖОБа на арийской стороне стал Антек.
— Очень был славный и толковый малый, — рассказывает Волинский, только имел ужасную привычку: вечно таскал с собой сумку гранат. Мне это несколько мешало с ним разговаривать: я боялся, как бы гранаты не взорвались.
Одна из первых депеш, которые «Вацлав» отправил в Лондон, касалась денег. Деньги нужны были его подопечным для покупки оружия, и сначала поступило пять тысяч долларов из тех, что сбрасывали с самолетов.
— Я дал их Миколаю из «Бунда», и тут ко мне прибегает Боровский, сионист, с жалобой. Пан Вацлав, говорит, он все забрал и мне ничего не хочет давать, скажите ему сами…
Но Николай уже отдал эти деньги Эдельману, а Эдельман — Тосе, а Тося спрятала их под полотер и, как они вскоре смогли убедиться, здорово придумала, потому что во время обыска у нее перерыли всю квартиру, но никому не пришло в голову заглянуть под полотер. За эти деньги на арийской стороне было куплено оружие.
Тося впоследствии выкупила «Вацлава» из гестапо: кто-то ей сообщил, что его арестовали, и она сразу подумала: «А что, если попробовать пустить в ход мой персидский ковер?» И действительно, благодаря ковру «Вацлава» выпустили на свободу. «Но ковер был, правда, прекрасный, — говорит Тося. Знаешь, такой бежевый, гладкий, с бордюром по краям и медальоном посередине».
Тося — доктор Теодозия Голиборская — последняя из врачей, занимавшихся в гетто исследованием голода, приехала на несколько дней из Австралии, так что у адвоката Волинского сегодня многолюдно, оживленно, шумно и все наперебой рассказывают разные забавные истории. Например: сколько было хлопот у «Вацлава» с ребятами из ЖОБа, которые чересчур поспешно расправлялись с агентами. Сперва полагалось вынести приговор, а уж потом приводить его в исполнение, а они являются и говорят: «Пан Вацлав, мы его уже убрали». Что тут было делать? Пришлось писать в группу «стрелков», чтоб хоть задним числом составили этот приговор.
Или: помните историю с тем большим сбросом? Пришло сто двадцать тысяч долларов…
— Погодите, — вмешивается Эдельман, — разве там было сто двадцать тысяч? Мы получили только половину.
— Пан Марек, — говорит «Вацлав», — вы получили всё и купили себе пистолеты.
— Те пятьдесят?
— Нет, что вы. Пятьдесят пистолетов вы не купили, а получили от нас, от АК. Хотя нет, один попал в Ченстохову, и тот еврей из него выстрелил, помните? А двадцать пошло в Понятов…
Вот так они болтают, а Тося еще вспоминает про красный джемпер, в котором Марек тогда носился по крышам, и говорит, что это была сущая тряпка по сравнению с джемпером, который она сразу же вышлет ему из Австралии, — а когда мы уже возвращаемся домой, Эдельман вдруг оборачивается и говорит: «Нет, месяц это не продолжалось. Несколько дней, от силы — неделю».
Речь идет о Юреке Вильнере. Что он выдержал неделю пыток в гестапо, а не месяц.
Ну как же, минуточку. «Вацлав» говорил — месяц, Грабовский — две недели…
«Я точно помню, он там пробыл неделю».
Его упрямство уже начинает вызывать раздражение.
Если «Вацлав» сказал — месяц, он, наверно, знал, что говорит.
Так что же теперь получается? Оказывается, нам всем очень важно, чтобы Юрек Вильнер как можно дольше выдержал пытки в гестапо. Это ведь большая разница — молчать неделю или месяц. Нам бы, правда, очень хотелось, чтобы Юрек Вильнер целый месяц молчал.
«Ну хорошо, — говорит Эдельман, — Антеку хочется, чтобы нас было пятьсот, литератору С. хочется, чтобы рыбу раскрашивала мать, а вы хотите, чтобы Юрек сидел месяц. Ладно, пусть будет месяц, это ведь уже не имеет никакого значения».
То же самое с флагами.
Они висели над гетто с первого дня восстания: бело-красный и бело-голубой. На арийской стороне на них смотрели с глубоким волнением, а немцы с превеликим трудом торжественно сняли их как военные трофеи.
Эдельман говорит, что если флаги были, то повесить их не мог никто, кроме его людей, а они флагов не вешали. Они бы повесили с радостью, будь у них хоть немного красной и белой ткани, но ее не было.
— Значит, кто-то другой повесил, не все ли равно кто.
— Да? — говорит Эдельман. — Вполне возможно. — Но лично он вообще никаких флагов не видел. Только после войны узнал, что они были.
— Как же так? Ведь все люди видели!
— Ну, раз все люди видели, стало быть, флаги наверняка были. А впрочем, — говорит он, — какое это имеет значение? Важно, что люди видели.
Вот что самое скверное: он со всем в конце концов соглашается. Даже бессмысленно его убеждать.
«Какое это сейчас имеет значение?» — говорит он и больше не спорит.
«Мы должны еще кое-что дописать», — говорит он.
Почему он остался жив.
Когда пришел первый солдат-освободитель, он остановил его и спросил: «Ты еврей? Почему ж ты живой?» В этих словах прозвучало подозрение: может, он кого-нибудь выдал? Может быть, отнимал у кого-то хлеб? Так что теперь я должна у него спросить, не выжил ли он случайно за чужой счет, а если нет то почему, собственно, выжил.