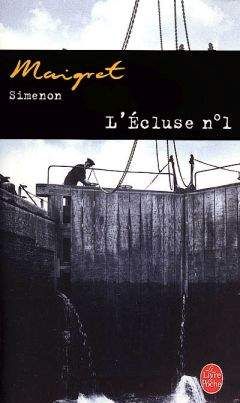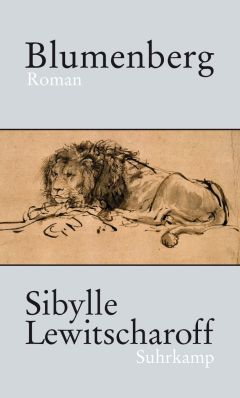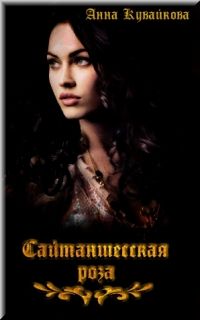Ханна Краль - Рассказы

Обзор книги Ханна Краль - Рассказы
Ханна Кралль
Рассказы
ДИБУК
Адам С., высокий, статный, голубоглазый, преподает историю архитектуры в американском техническом колледже. Бывал в Польше. Интересовали его деревянные синагоги, которые сгорели во время войны.
Я спросила Адама, почему родившийся после войны, преуспевающий американец метр восемьдесят росту интересуется тем, чего не существует.
Он ответил письмом. Писал на компьютере. Наверное, у него было мало времени, поэтому он не обрезал, а оборвал зубчики по краям листа. Его отец, писал Адам, был польским евреем, потерявшим в гетто жену и сына. После войны выехал во Францию, там женился. Новая жена была француженкой. Адам родился в Париже, в доме говорили по-французски. «Так при чем тут Польша? — писал он на бумажной компьютерной ленте. — А все из-за дибука. Единокровный брат, сын моего отца от первого брака. Мой тезка. Говорят, он пропал в гетто. Сидит во мне уже давно, все детство, все школьные годы…»
Слово «дибук» — на иврите «dibbuk» — означает «связь». В еврейской традиции так называется душа умершего, которая переселилась в живого человека.
Адам С. довольно рано понял, что он не один. Иногда на него накатывали приступы необъяснимой злости, чужой злости, в другой раз он заходился внезапным и тоже чужим смехом. Он научился узнавать эти состояния, довольно неплохо владел собой и не срывался в присутствии посторонних.
Время от времени сожитель сей что-то говорил. Что — Адам не знал, поскольку дибук говорил по-польски. Он начал учить язык: хотел понять, что говорит ему младший брат. Выучил — и приехал в Польшу. Тогда-то и заинтересовала его архитектура деревянных синагог, которые на протяжении трех веков нигде, кроме Польши, не существовали. Они были расписаны райскими садами и диковинными животными, высились стены Иерусалима, текли вавилонские реки… Их купола, снаружи незаметные, потому что прикрывались обычной крышей, внутри создавали ощущение бесконечного, уходящего ввысь пространства.
Тех стен и райских кущей давно уже нет. Адам С. видел их на старых, несовершенных фотографиях — и писал о них блестящие статьи. Со временем он защитил докторскую и перебрался в другой, более престижный колледж. Женился. Купил дом. Жил, как и все нормальные, образованные американцы, вот только была это двойная жизнь. Его собственная и его младшего брата, который звался Абрамом и шести лет от роду «как-то потерялся» в гетто.
2В апреле 1993 года Адам С. приехал в Польшу. Он не был здесь несколько лет. Сразу же по приезде поехал в Полянец, оттуда — в Пиньчув, в Заблудов, в Груец и в Нове Място. Зачем — неизвестно. Может, надеялся, что в этот раз увидит в груецкой синагоге те самые вавилонские реки и вербы, на которых «повесили мы арфы наши…». А может, надеялся в Заблудове найти грифонов, медведей, павлинов, китов и крылатых драконов…
Как и предполагалось, нашел только траву и несколько понурых деревьев. Он вернулся в Варшаву. Как раз начинались торжества по случаю пятидесятилетия восстания в гетто. В перерыве между заседаниями мы пошли на обед.
Я поздравила Адама с рождением сына, посмотрела фотографии и спросила.
— А… он?
Не знала, как назвать — брат? Абрам? Дибук?
Но Адам понял сразу.
— Никуда он не делся. Сидит во мне крепко, хоть я и рад был бы с ним распрощаться. Всюду суется, сам не знает, чего хочет. Ему со мной плохо, да и мне — я чувствую — все хуже и хуже.
— Узнал я, — продолжал Адам С., — что в Бостоне живет буддийский монах. Американский еврей, который принял буддизм и стал монахом. Знакомый сказал: «Этот человек мог бы тебе помочь…».
Поехал к монаху. Он уложил меня на кушетку и стал массировать плечи. Сначала я ничего не чувствовал, лежу себе и лежу, а через полчаса вдруг разрыдался. Никогда еще не плакал во взрослой жизни. Я слушал этот плач — и знал, что это не мой голос. Это был голос ребенка. Ребенок во мне плакал. Он плакал все сильнее — и я зашелся криком. Это кричал ребенок. Он кричал. Я знаю, он чего-то боялся, потому что это был крик ужаса. Он был сильно испуган, чем-то разозлен, метался, размахивал моими кулаками. На минуту стихал — и заходился снова. Он был вне себя от усталости и страха… Сэмюэль, монах то есть, пытался ему что-то сказать, но он не переставал плакать. Так продолжалось несколько часов, я думал, что умру, у меня совсем не осталось сил. Как вдруг почувствовал: что-то во мне происходит. Крик утих, у меня на животе замаячила какая-то тень. Я знал: все это мне только кажется, но монах тоже что-то такое заметил, потому что обратился к ней: «Уходи, — попросил. — Иди к свету». Не знаю, что это могло значить, потому что все происходило в обычный, ясный день. — «Ну иди».
Тень начала медленно передвигаться. А Сэмюэль все повторял и повторял несколько слов, одни и те же:
— К свету иди… Иди, иди… Не бойся, там тебе будет лучше…
А он уходил… Вернее, не уходил, уплывал, все дальше и дальше, и я понял: еще чуть-чуть, и он уйдет навсегда. Мне стало грустно. «Хочешь от меня уйти? — спросил я. — Оставайся. Ты ведь брат мне. Не уходи». Он как будто только того и ждал. Обернулся, одним быстрым движением вскочил на меня — и больше я его не видел.
Адам С. замолчал.
Мы сидели в азиатском ресторане на Театральной площади. За окном стоял холодный ранний вечер. Все дни торжеств было на редкость промозгло и зябко. Мшистая серость окутывала машины; не оглядываясь по сторонам, куда-то спешили люди. Мы смотрели на них и думали об одном и том же: кого теперь волнуют годовщины гетто, деревянные синагоги и плачущие дибуки?
— В Америке тоже никого не волнуют, — вставила я, хотя сам Адам знал об этом намного лучше.
На столе лежали фотографии жены и сына Адама С. Веселый, подвижный мальчик в объятиях серьезной женщины с карими глазами, едва заметными за толстыми стеклами очков. «Мойша… — сказал Адам. — Как мой отец. Но отец был самым обычным, настоящим Мойшей, а мальчика все зовут Майклом».
— Ты рассказал отцу о Бостоне и монахе?
— По телефону. Он живет в Айове. Я позвонил ему, когда вернулся, думал, он не поверит или хотя бы удивится, но он ничуть не удивился. Спокойно выслушал, а потом сказал: «Я знаю, что это за плач. Когда его выбросили из укрытия, он стоял на улице и громко плакал. Это был его плач, выброшенного на улицу моего ребенка».
Впервые в жизни мы говорили с отцом о брате. У отца больное сердце, и я не хотел его беспокоить. Знал, что брат погиб, как и все. О чем еще говорить? Теперь же узнал, что он где-то прятался вместе со своей матерью — первой женой моего отца. С ними было еще несколько евреев. Где прятались — в гетто или на арийской стороне — не знаю. Иногда представлял себе какую-то кухню и кучу людей на полу… Старались не дышать… А он расплакался… Пробовали его успокоить… Чем можно успокоить плачущего ребенка? Конфеткой? Игрушкой?.. Ни игрушек, ни конфет у них не было. А он плакал все громче… Сбившиеся на полу люди думали об одном и том же… Кто-то шепнул: «Из-за одного мальчишки все тут погибнем…» А может это была не кухня… Может, подвал или бункер… Отца там не было, только она, мать Абрама. Осталась со всеми… Выжила. Уехала в Израиль. Может живет еще, не спрашивал, не знаю…
Отец умер.
Жена пошла в больницу рожать. Я пошел вместе с ней и лег на соседнюю кровать. Когда акушерка сказала жене: «Тужься, сейчас родишь», мне показалось, во мне тоже что-то происходит. Что-то задвигалось, как будто закачалось… Догадался: он. Вознамерился поселиться в моем ребенке. Я сорвался с кровати.
— Ну, нет, — сказал я громко. — Ни за что. Никакого гетто. Никакого Холокоста. В моем ребенке ты жить не будешь.
Я не кричал, но говорил решительно. Говорил по-польски, так что ни акушерка, ни жена не понимали. Зато он понял. Я успокоился, снова лег. Почувствовал страшную усталость — и задремал. Разбудил меня плач, громкий, но в нем не было страха. Кричал здоровый, нормальный родившийся на свет ребенок. Мой ребенок. Мой.
3Буддийский монах сидел на кровати, вытянув перед собой ноги. Обе ноги — в гипсовых белых колодах, из которых торчали только длинные, нервные пальцы. В руках он держал флейту в метр длиной. Время от времени подносил ее к губам, торчащие из гипсовых колод пальцы начинали подрагивать и покачиваться в такт, и комнату наполняли высокие, сумрачные звуки.
У монаха были две кедровые флейты. Ту, что покороче, из белого кедра, подарили ему индейцы из Северной Дакоты. Та, что подлиннее, из красного кедра, была родом с гор Аризоны. У каждого сорта дерева — свой запах. «Сама попробуй» — он протягивает мне флейту. Она пропитана пьянящим ароматом, полным тайн, которые никого не пугают.
Вся обстановка монаха состояла из кровати, инвалидной коляски, пары костылей, электроплитки, чашки на столике и нескольких книг. Подумалось: когда-то я уже была в такой комнате, в Германии, в средневековом замке. У барона и офицера вермахта Акселя фон де Буше. Он увидел, как в Польше убивают евреев, — и решил убить Гитлера. Тот же знакомый запах постели, кофе и лекарства.