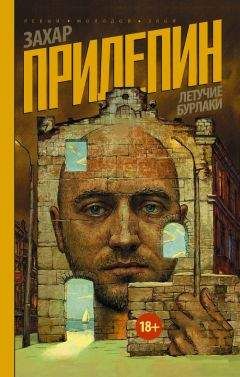Шолохов. Незаконный - Прилепин Захар
«Хлеб свалили на широкую бричку, и тавричанин, боровшийся со Степаном, щёлкнул на тройку сытых лошадей щегольским кнутом.
– Поняйте слидом.
На бугре, верстах в четырёх от слободы, хлеб перегрузили на сани».
В ночи Степан и Афонька встретили грабителей.
«– Семенной хлеб… Братцы!.. Родненькие, братцы!.. А-а-а, – рыдал Степан и ползал на коленях, кровяня ладони о мёрзлую колкость дороги.
Афоньку первый, бежавший от брички, свалил с ног прикладом винтовки, кинул на него полость от саней.
– Лежи, не зиркай!..
Бричка прогремела и стала около саней. Двое, кряхтя, кидали в неё мешки, третий в башлыке стоял над Степаном. Из-под нависших реденьких усов скалил щербатый, обыневший рот».
Степан вернулся домой, к своей оголодавшей семье, без зерна.
Неизвестно, как они пережили голодные месяцы: автор опускает это.
«Перед троицей, – пишет Шолохов, – начался покос».
«Выехали в степь, и в первую же ночь ушли с попаса Степановы быки.
Искали сутки. Вдоль и поперёк прошли станичный отвод, оглядели все яры и балки. Не осталось на погляд и следа бычиного. Степан к вечеру вернулся домой, накинул зипун и стал у двери, не поворачивая головы.
– Пойду в хохлачьи слободы. Ежели увели, – туда».
Казаки даже не сомневаются: своровали хохлы.
«Уже перед вечером на развилке двух дорог догнал арбу с сеном. Наверху сидел без шапки желтоголовый, лет трёх мальчуган. Лошадь вёл мужчина в холстинных, измазанных косилочной мазью штанах и в рабочей соломенной шляпе. Степан поравнялся с ним.
– Здорово живёте.
Рука с кнутом нехотя поднялась до широких полей соломенной шляпы.
– Не припало вам видеть быков… – начал Степан и осёкся. Кровь загудела в висках, выбелив щёки, схлынула к сердцу: из-под соломенной шляпы знакомое до жути лицо. То лицо, что белым полымем светилось в темноте бессонных ночей, неотступно маячило перед глазами… Из-под тенистых полей шляпы, не угадывая, равнодушно глядели на него усталые глаза, редкие, запалённые усы висели над полуоткрытыми губами, в жёлтом ряду обкуренных зубов чернела щербатина.
– Аааа… довелось свидеться!..
Под шляпой резко побелел сначала загорелый лоб, бледность медленно сползла на щёки, дошла до подбородка и рябью покрыла губы.
– Угадал?
– Шо вам… Шо вам надо?.. Зроду и не бачил!
– Нет?.. А зимой хлеб?.. Кто?..
– Нет… Не было… Обознались, мабуть…
Степан легко выдернул торчавшие в возу вилы-тройчатки и коротко перехватил держак. Тавричанин неожиданно сел у ног остановившейся потной лошади, в пыль положил ладони и глянул на Степана снизу вверх.
– Жинка померла у мене… Хлопчик вон остался… – ужасающе беспечным голосом сказал он, указывая на воз прыгающим пальцем.
– За что обидел? – весь дрожа, хрипел Степан. <…>
– Похоронил жинку… в бабьей хворости была… Вот хлопчик… Третий год с пасхи… Прости, дидо!.. <…> Сено не свозил… Ох! Хозяйство сгибнеть… Та как же…»
Это «хозяйство сгибнеть» показывает, что перед нами тоже – человек земли, проведший целую жизнь в труде и даже перед смертью первым делом вспомнивший о своём дворе и скотине. Но он сотворил страшный грех, поставив свой двор превыше чужой, едва не загубленной жизни.
«Степан занёс вилы, на коротенький миг задержал их над головой и, чувствуя нарастающий гул в ушах, со стоном воткнул их в мягкое, забившееся на зубьях дрожью…
На пожелтевшее, строгое, прижатое к земле лицо кинул клок сена, потом взлез на воз и взял на руки зарывшегося в сено мальчонка.
Пошёл от воза петлястыми, пьяными шагами, направляясь к тлевшим на сугорье огням слободы. Прижимая к груди выгибавшегося в судороге мальчонка, шептал, сжимая клацающие зубы:
– Молчи, сынок! Цыц!.. Ну… молчи, а то бирюк возьмёт. Молчи!..
А тот, закатывая глаза, рвался из рук, визжал в залитую голубыми сумерками, нерушимо спокойную степь:
– Тато… Та-то!.. Т-а-ато!..»
Оглушительной силы текст! Один «ужасающе беспечный» голос тавричанина чего стоит.
Возвращаясь к теме, видим, что тавричанин, грабя старика, обрекал на смерть всех его внуков, всю семью. А Степан сироту забрал, навесив на себя девятый уже рот – и, что важно, даже лошадей его не тронул, чтоб не уподобиться убитому им.
В рассказе «Батраки» появляется обрусевший хохол, зубарь Фрол Кучеренко, словно бы предваряющий всех ещё неописанных Шолоховым большевиков-украинцев.
«Работать они мальчики, – говорит в рассказе крепкий хозяин Захар Денисович про своих батраков, – а уж исть мужички!..»
Фрол приходит в бешенство от этих речей.
«– Это ты про кого же говоришь? – сухо спросил он.
– Вообче.
– То есть как это вообче? <…> А если я тебе, гаду, за такие слова по едалам дам? – громко спросил Фрол. <…>
– Выражаться тут нечего!.. – опамятовавшись, бубнил Захар Денисович.
– Тут выражаться и нечего, а морду твою глинобитную исковырять, как пчелиный сот, вот и всё!.. – гремел расходившийся зубарь. – Ты не забывай, подлюка, что это тебе не прежние права! Я на тебя плевать хочу! И ты не смей смываться над рабочими! <…> Я в Красной Армии кровь проливал, а ты смеешь над рабочим смываться?!..
– Замолчи, Фрол, ну, прошу тебя, замолчи!.. – машинист тряс рукав морщеной гимнастёрки.
– Не могу!.. Душа горит!..»
Именно Фрол наставляет главного героя рассказа – юного батрака Фёдора.
«– Я тебе вот что скажу, – начал зубарь, похрустывая огурцом, – иди ты напрямки в хутор Дубовской, там комсомолистовская ячейка. Ты к ним, они защиту дадут. Я, брат, сам в Красной Армии служил и приветствую новую жизнь, но сам не могу, по причине потомственной слабости… От отца и кровь передалась: водку пью, а при советском социализме не должно быть подобного… Вот… А то бы я, – зубарь загадочно округлил глаза, – образование поимел и в партию единогласно вписался!..»
Перед нами словно бы подмалёвок к той коллизии, когда молодого Григория Мелехова, угодившего в снегирёвскую больницу, наставляет украинский большевик Гаранжа.
Малороссы, появляющиеся в первой части «Тихого Дона», поначалу выглядят комически. «Хохол-мазница, давай с тобой дражниться! Хохол!.. Хохол!.. Дегтярник!.. – верещала детвора, прыгая вокруг мешочных широких шаровар Гетька».
Гетько служит у Мирона Коршунова батраком. О нём, походя, Шолохов замечает: «Сидел он на лошади присущей неказакам неловкой посадкой, болтал на рыси рваными локтями». Это, характерное даже для казацких детей, ироническое отношение к хохлам – признак давних противоречий.
На моховской мельнице случается ссора между казаком и малороссом. Раздаётся крик: «Братцы, казаков бьют!..»
«Из дверей мельницы на двор, заставленный возами, как из рукава, вперемешку посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком. Свалка завязалась у главного входа».
Если зарезанный на покосе Григорием Мелеховым гусёнок – символ загубленной им женской судьбы, тем же лезвием брошенная им Наталья будет пытаться убить себя, – то драка на мельнице – первый всполох Гражданской войны на Дону.
В следующей главе Шолохов признаётся: «С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерова на семьдесят пять вёрст) не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого ездили на станцию по нескольку подвод вместе и тогда уж, встречаясь в степи, не боялись вступить в перебранку.
– Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живёшь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?»
Здесь Шолохов, будто преодолевая свою казачью натуру, признаётся: «Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что “хохол”; а раз “хохол” – надо бить».
Показателен один случай, едва не погубивший Григория. Это случилось ранней весной. Он служил тогда у Листницких. Возвращаясь из Миллерова, Мелехов подъехал к одному месту, где сутки назад переезжал по льду реки.