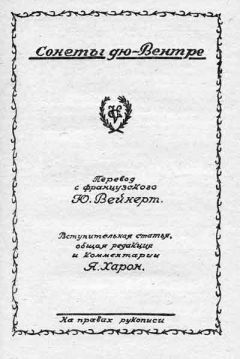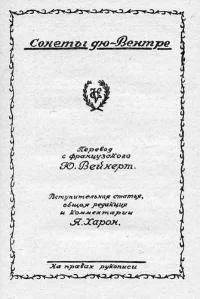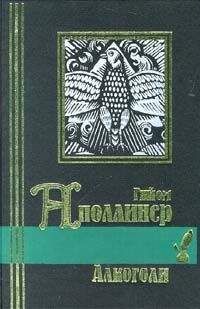Яков Харон - Злые песни Гийома дю Вентре : Прозаический комментарий к поэтической биографии.
Через минуту вошел Григорий Иосифович, наш главный хирург и добрый гений, человек, о котором надо бы складывать баллады… Это он дерзнул ответить грозному начальнику, приехавшему инспектировать завод и обнаружившему, что «слишком много заключенных по пустякам освобождено от работы» в такое горячее время, когда каждый рабочий на счету,— он рискнул ответить, что различает только больных и здоровых, а вольных и заключенных различать их выпуск не учили. Григорию Иосифовичу этот ответ — его слышали десятки людей — мог стоить партбилета как минимум, но наш главный хирург был не из трусливых: к нам он прибыл прямо с Халхин-Гола. Годом раньше, на Хасане, он начал свою военно-хирургическую практику, сам был дважды ранен и принят в партию за незаурядную, видимо, отвагу и мужество. Не знаю, перевели ли его из армии в нашу «систему» просто так или за какие-нибудь грехи,— об этом мы никогда не говорили. Знали только, что он то и дело пишет куда-то прошения об отправке на фронт (шла уже Великая Отечественная), но на Запад он так и не попал, а попал на Восток уже под самый конец, весной сорок пятого, и трагически погиб в последние дни войны, даже чуть ли не после официальной капитуляции Японии. Достигшая нас легенда гласит, что самурай-офицер, над которым Григорий Иосифович склонился, чтобы осмотреть и обработать его рану, в упор застрелил его из пистолета…
Мы и тогда понимали, что это явная легенда, но понимали и добрые чувства и любовь к нашему хирургу тех, кто создал эту красивую легенду: Григорий Иосифович стоил ее…
Это он научил меня чудодействию — грамотно сделать противостолбнячный укол пострадавшему, например, на лесоповале. Знаете, как это бывает, валят арестанты мачтовый лес (на одной из наших «подкомандировок» — подсобном участке — для нужд строительства), но далеко расходиться им не разрешают, потому что они подконвойные, а конвоя мало. Стало быть, валят они эти самые мачты-громадины на недопустимо близком друг от друга расстоянии. Это я говорю вам как специалист по технике безопасности: когда сняли и отдали под суд нашего начальника по ТБ за то, что по его недосмотру погибли три автогенщика, никто из вольнонаемных не захотел занять этот коварный пост, и мне, вдобавок к другим моим обязанностям «придурка», навесили еще и функции старшего инспектора по охране труда и технике безопасности. В этом амплуа приходилось мне ассистировать Григорию Иосифовичу на судебно-медицинских вскрытиях, писать протоколы и прочее, но значительно чаще приходилось мчаться на всякие ЧП, так что я повидал кое-что сверх программы.
На лесоповале рубщику полагается, как известно, криком предупреждать своих товарищей об очередном падении ствола и рукой показывать направление падения. Он, конечно, и кричит, и показывает, но нередко его сигнал совпадает во времени (и, к сожалению, в пространстве) с таким же сигналом другого рубщика, так что другие соседи не сразу могут сообразить, куда кидаться-то. Но, и правильно сообразив, они многого не могут предвидеть: например, что два ствола, падая навстречу друг другу, могут столкнуться, разлететься в разные стороны, причем именно в тех направлениях, в каких отбегают люди, мгновенно оценив первоначальное направление падения. Метровый в комле ствол, или «хлыст», настигает людей, бегущих друг за дружкой, да так их строем и укладывает, вдавливает в землю — случалось, и пятерых подряд. Снега на дальневосточных равнинах мало, в мачтовых рощах и того меньше, а если куда и наметет его, то не в сугробы же бегут, а по протоптанным тропинкам отбегают… Полагается прежде всего делать каждому пострадавшему противостолбнячный укол — не берусь сказать, для чего и почему, но только такая у нас была инструкция. ЧП всевозможных было много, врачей мало, вот и приходилось обучать приемам первой помощи кое-кого из нашей «придурковой» братии, преимущественно из «расконвоированных», пользовавшихся правом хоть какого-то передвижения вне зоны. Делал и я такие уколы, и, несмотря на это, многие выживали. Человек вынослив.
А еще Григорий Иосифович спас наш рояль, и это было тоже подвигом, хоть и совсем из другой оперы.
Опера у нас, разумеется, тоже была, и довольно приличная. Инструменталистов, правда, было маловато, и были они самой разной квалификации, но чего не сделает энтузиазм!.. Скрипачей было трое, Валерий Казимирович, наш главный конструктор, был, пожалуй, самым лучшим, хотя на воле не играл до этого лет двадцать, да и скрипку свою выписал в лагерь очень поздно: все казалось ему несолидным и «неудобным» заниматься в заключении какой-то там художественной самодеятельностью… Двух других скрипачей весьма успешно обучил Карлуша, игравший на виолончели. Вообще-то он, Карлуша, был трубачом, но играть на трубе ему мешало кровохарканье, и он решил переквалифицироваться. А своего брата-близнеца Курта он научил играть на литаврах — представьте себе, были у нас и литавры… Если рассказать, как я полгода уговаривал нашего КВЧ (культурно-воспитательная часть) выписать эти литавры, да в какое бешенство он пришел, когда они прибыли и он удостоверился, что литавра — это всего лишь «большая дура», полушаровой котел-барабан, ни на какую «настоящую музыку» непригодный,— ох, это был бы номер для Райкина… Впрочем, из нашего КВЧ мы со временем тоже человека сделали: я позже встречал его уже на посту директора краевого театра драмы: коллектив уважал его за организаторские способности и непонятную (коллективу) осведомленность в вопросах симфонии и оперы.
Еще был у нас саксофон, унаследованный от «освобожденного» ансамбля Центрального КВотдела, каковой ансамбль расформировали и отправили в штрафную колонну — за какое-то очередное разложение. Помаленьку мы этих штрафников поштучно перетаскали к нам, на завод,— преимущественно профессиональных музыкантов, порассовали их на не слишком тяжкие работы (счетоводами, браковщиками ОТК, санитарами, да мало ли «придурковых» должностей на большом заводе!..) и таким способом намного усилили нашу самодеятельность. Были у нас и вокалисты — профессионалы и самородки, которых мы воспитали, и не только в плане музыкальном.
Самое трудное дело — придумать репертуар. В нашем случае трудность носила какой-то китайский характер: сплошные мужчины. Мы ставили «фрагменты» из опер — фрагменты, в которых не было женских партий… Доставать партитуры приходилось тоже по-разному, отнюдь не по линии «Ноты — почтой». Однажды знойным летним днем я топал в горку, в город, в Управление: нес месячную отчетность в ЦБРИЗ. Был я в ту пору уже расконвоированным начальником нашего заводского Бюро рабочего изобретательства, и по этой линии подчинялся Центральному БРИЗу, возглавлявшемуся Василием Николаевичем [29] , талантливым писателем, впоследствии получившим заслуженное широкое признание. А тогда он, после своего освобождения, предпочел (или, вернее, просто вынужден был) остаться в наших краях, далеко от Москвы, и заниматься, уже в качестве вольнонаемного, административной деятельностью, впрочем, достаточно интересной. Инженер по образованию, он сумел вдохнуть изрядную долю энергии и охоты к творчеству в людей, силою обстоятельств поставленных в условия, отнюдь не располагавшие к изобретательству и рационализации. Он настоял на том, чтобы во главу БРИЗов на местах были назначены местные же рационализаторы — независимо от их статьи и срока, сообразуясь только с их деловыми качествами. Это было рискованным требованием, и Василию Николаевичу в случае малейшей промашки (например, если б кому-то из расконвоированных в связи с назначением на эту работу контриков вздумалось совершить побег) грозили нешуточные неприятности — вплоть до нового заключения: тут уж пахло «организацией»… Но никто из нас, судя по всему, его ни разу ни в чем не подвел.