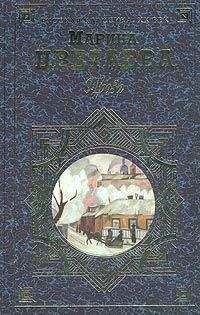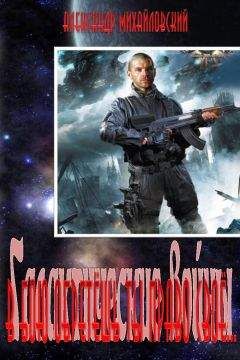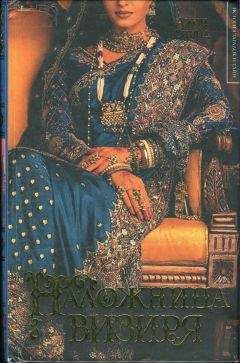Евгенией Сомов - Обыкновенная история в необыкновенной стране
Спать нас укладывают очень рано, мы каждый раз протестуем и в награду за послушание требуем, чтобы нам читали некоторое время вслух. Это делает обычно мама. Сначала это были сказки, потом рассказы из «Задушевного слова», а потом и романы Чарской о гимназистах. Когда же чтение заканчивалось, и мама уходила, мы с сестрой еще пытались тихо перешептываться, рассказывая что-нибудь страшное. Но как только наш шепот становился достаточно громким, дверь в детскую распахивалась, зажигался свет, и появлялась возмущенная мама. И, наконец, мы засыпали сладким сном детей, которые даже и не подозревали, что случилось с Россией в октябре 1917 года и что случится с ними, когда власть большевиков окончательно окрепнет.
В этот день с самого утра шел беспрерывный дождь. Осень в Петрограде началась необыкновенно рано, уже в сентябре почти все листья пожелтели. В послеобеденное время на извозчике моя мама была доставлена в родильный дом Петроградского района. Схватки начались еще с утра, но отправку из Дома все откладывали — решали, куда лучше везти рожать. Настроение у мамы было очень подавленное: после рождения моей сестры молодая пара не хотела вновь обременять себя заботами, да и мама боялась, что опять родится девочка. Но родился я, мальчик. И роды прошли очень легко. Когда к ней поднесли меня и показали, она долго всматривалась в мое красное распухшее личико и торчащие вперед белые волосы и, наконец, сказала: «Это, видимо, не мой, проверьте». На двух соседних столах в это же время тоже произошли роды. Проверили, и все сошлось. Уже когда я был взрослый, она рассказала мне, что, забеременев, много раз пыталась вызвать выкидыш, принимая различные лекарства, включая ртуть, и распаривая себя после этого в ванне. Но ничего не помогло, а аборты в то время были строго запрещены. Она как бы подсознательно чувствовала, что этот ребенок принесет ей в жизни много страданий. Так оно и случилось.
Мой вес был 3 кг 700 граммов, и рос я удивительно быстро. Был прожорлив, так что материнского молока не хватало и приходилось докармливать меня чужим женским молоком, которое выдавали в специальной женской консультации района. Ребенок оказался плаксивым и очень чувствительным к шуму, свету и холоду. В дом пришлось взять еще одну няню, Наташу, молодую красивую крестьянскую девушку с длинной косой. Она должна была убирать квартиру, топить печи, ходить за продуктами и во всем помогать другой няне, Дуне. Дуня же была большая грудастая девушка из Псковской губернии, которая покинула свою деревню, так как там с приходом советской власти начался голод. Дуня была очень ласковой и прямодушной, она прослужила у нас долго, пока мне не исполнилось шесть лет. Мама доверяла ей во всем, и практически она вела все хозяйство, хотя была почти неграмотной. Уйти от нас ей пришлось лишь после того, как она вышла замуж за отставного матроса. Они поселились в его маленькой комнатке на окраине города, где у нее родился ребенок. Наташа же нравилась мне больше Дуни, так как она, по моим детским понятиям, была красавицей. Когда она подметала в комнатах, я с наслаждением смотрел на ее красивое лицо, красно-каштановую копну длинных волос. Вечером все в доме стихало, сквозь закрытые двери кухни, через коридор можно было слышать тихое пение, это пели Дуня и Наташа свои русские деревенские песни, протяжные и печальные.
Это был большой пятиэтажный петербургский дом на гранитном основании по Лахтинской улице, 25, на углу Гейслеровского проспекта. В нем наша семья прожила до зимы 1942 года, пока нас как немцев не выслали в Сибирь. Этот дом был построен в самом начале века и принадлежал моему деду и его компаньону. Конечно, сразу же после переворота большевиков в октябре 1917 года дом был конфискован, и моему деду удалось в нем отстоять только одну квартиру № 25 на пятом этаже, которую он потом передал своему сыну, моему папе, а сам переселился в небольшой дом по Эсперовой улице Елагина острова. Квартира наша состояла из пяти комнат и казалась мне в то время очень большой. В детские праздники в ней можно было играть в прятки, бегать наперегонки по периметру комнат или прятаться от няни и мамы так, что они по полчаса не могли нас найти, чтобы вести укладывать спать. Больше всего в раннем детстве я не любил ложиться спать: чем становилось позднее, тем интереснее становились наши игры.
Это может показаться невероятным, но я помню себя в годовалом возрасте. Помню, как меня запеленывают в ватное одеяло и большой шарф, оставляя лишь клапан для лица, чтобы нести гулять в садик на мороз. Помимо всего еще и ноги поверх одеяла завязывают какой-то лентой, так что я совсем ими пошевелить уже не могу. И вот меня «гуляют», мороз щиплет мне щеки, и няня то и дело смотрит на них и трет рукой. Иногда она кладет меня на скамейку, чтобы что-то в моем снаряжении поправить, и тогда я вижу небо, серое петербургское небо и сходящиеся к нему стены домов. Но больше всего мне запомнились руки мамы с широкими пальцами и коротко подстриженными ногтями, чтоб не мешали играть на фортепиано. Эти руки всегда теплые, энергичные и крепкие.
В гостиной стоял большой рояль фирмы «Ратке», на котором мама занималась по много часов в день, так как после окончания Петербургской консерватории еще мечтала о карьере пианистки. И эти пассажи этюдов, повторяемые бессчетное число раз, доносились в нашу детскую комнату каждый вечер. Под них мы с сестрой засыпали. Иногда они были для нас хорошим прикрытием, и мы могли болтать, лежа в темноте, не опасаясь, что нас услышат. Но иногда одни и те же повторяемые такты вызывали чувство тревоги, будто нечто хочет продвинуться вперед, но все время вновь и вновь возвращается к началу. Однако наступали и чудесные моменты, когда музыкальная вещь была уже готова и проигрывалась вся до конца. Тогда из гостиной вдруг неслась волшебная музыка, которая переплеталась с наступающим сном и уносила куда-то далеко в сказочный мир.
Мама училась у профессора Бариновой. В то время директором Консерватории был композитор Глазунов, а на композиторском отделении учился Дмитрий Шостакович. Уже тогда Шостакович был знаменит своими первыми авангардными произведениями, о которых было много споров среди студентов. Однажды Глазунову в классе задали вопрос о музыке Шостаковича, он на минуту задумался и вдруг просто оперся локтями на открытую клавиатуру рояля, сказав: «Вот что это за музыка». Мама полюбила музыку Шостаковича, уже будучи в зрелом возрасте.
Школа Бариновой была продолжением немецкой музыкальной традиции на русской почве. Баринова училась в Берлинской консерватории у великого Бузони и до своей кончины в 1962 году оставалась приверженцем его интерпретацией Баха и Гайдна. Мама восприняла от неё особую постановку рук на клавиатуре и так называемый сухой удар, которым отличался Бузони.