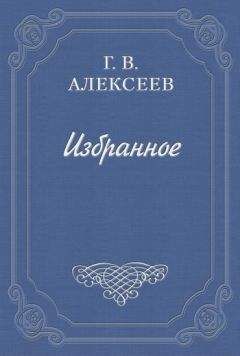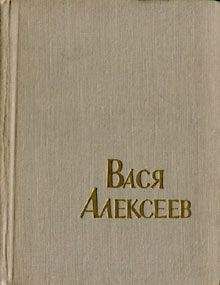Александр Алексеев - Воспоминания артиста императорских театров А.А. Алексеева
По окончании входит ко мне в уборную Петровский.
— Ступай, — говорит, — на сцену: его превосходительство тебя зовет.
Я вышел.
— Хочешь служить в императорском театре? — спросил меня Борщов, принимая важный и покровительственный тон и говоря прямо на «ты».
— Сочту за честь…
— Ну, еще бы!.. Приходи завтра ко мне часов в двенадцать. Я остановился в Петербургской гостинице.
На другой день он выдал мне 300 рублей подъемных и велел выезжать в столицу.
Распродал я лишнее свое имущество, сыграл прощальный
бенефис, нанял почтовый дилижанс и отправился по направлении к Петербургу.
XI
Москва. — Бенефис Садовского. — Первый дебют И.Ф. Горбунова. — Петербург. — Первый выход. — Служба. — Поездки на гастроли. — Трагик Ольридж. — Его участие в моем бенефисе и русская песня, им исполненная. — Анекдот про Садовского. — Поездка в Рыбинск. — Вехтерштейн. — Рыбинский антрепренер Смирнов.
В Москве я сделал себе трехдневный отдых. Все три вечера провел в драматическом театре. Подивился необычайно стройному ансамблю и сборищу талантов. Действительно было что посмотреть и было у кого поучиться. Хотя в те поры и Александринский театр мог щегольнуть кое-чем, но, все-таки, далеко ему было до Москвы.
Был на бенефисе П.М. Садовского и умилялся приему публики, радушно чествовавшей своего любимца. Шла пьеса Владыкина «Образованность». Этот бенефисный спектакль[9] мне памятен особенно тем, что в «Образованности» выступал первый раз в жизни И.Ф. Горбунов, в том же году поступивший на петербургскую сцену и занявший там одно из видных мест. В Александринском театре он дебютировал в «Ночном» (роль Вани) и в «Охотнике в рекруты» (роль Емельяна) — обе роли ему удались как нельзя лучше, но имя себе он сделал своими знаменитыми народными рассказами, оставшимися без подражания.
В уборной Прова Михайловича я познакомился с дебютантом.
— Теперь вы куда? — спросил меня, между прочим, Садовский.
— В Петербург.
— А вот вам и попутчик, — указал он на Горбунова. — Он тоже в Петербург едет. Дебютировать там будет и, вероятно, останется служить. Малый-то с огоньком…
На другой день я смотрел «Ворону в павлиньих перьях». В театр шел я с предубеждением. В роли маркера Антона Шарова я помнил Мартынова и не ожидал в лице Сергея Васильевича Васильева встретить опасного конкурента моему любимцу, гениальному комику, но с первого же акта я стал в тупик, не зная, кому отдать предпочтете: Мартынову или Васильеву. Оба играли по-своему, но так, что до сих пор я помню малейшие детали и того и другого в этой водевильной роли. Это были маркеры, схваченные прямо из биллиардной скверненького трактира…
Приезжаю в Петербург.
Справляюсь, приехал ли Борщов. Приехал, говорят. Отправляюсь к нему.
— А! Прикатил? Отлично! — встретил он меня. (Такая встреча с его стороны считалась очень любезной и радушной). — Ну, присядь, пожалуй! я сейчас дам тебе писулю к Павлу Степановичу Федорову. Он у нас начальник репертуара и в его ведении дать тебе дебют.
Прихожу к Федорову.
— Ведь вы наш старый?— спросил он меня.
— Да, служил с 1839 по 1843 год.
— И опять к нам вознамерились?
— Да, по приглашению Павла Михайловича Борщова.
— А не по собственному разочарованно провинциальными подмостками?
— Нет!
— Так отчего-ж бы вам и не остаться там?… Впрочем, я напишу записку к режиссеру. Отправьтесь к нему, он назначит вам дебют. Это в его распоряжении.
Отправляюсь к режиссеру, моему школьному товарищу Александру Александровичу Яблочкину, который и завершил своей резолюцией мои мытарства по начальству. Через несколько дней назначен был для моего дебюта «Стряпчий под столом».
Чем больше я служил на сцене, тем большую ощущал к себе недоверчивость. Проявление трусости стало обычным явлением, на этот раз превзошедшим все мои ожидания. Поместившись в отведенной мне уборной, я испытывал такое томление, что готов был отказаться от дебюта, от казенной службы и снова возвратиться в недра провинции. Но незабвенный Мартынов явил мне свою товарищескую помощь. Он позвал меня к себе в уборную и дружески сказал:
— Прикажи-ка перенести твой атрибут сюда — вдвоем-то, пожалуй, веселей будет… Да ты, друг, чего такой пасмурный?
— Страх одолевает.
— Это хорошо, когда трусишь не на сцене, а за сценой…
— Вот тут-то и штука, что я не могу поручиться за свою храбрость перед публикой…
— Вздор! Страх перед выходом — это гарантия смелости на сцене… Вся прелесть актерства для меня и заключается именно в этом страхе: если бы не он, так бы и зажирел, как свинья на помоях; страх-то энергию и деятельность возбуждает, при нем чувствуешь по крайней мере, что живешь… Ты вот у нас почти новичок, твой страх объясним, а обрати-ка внимание на меня— чуть не родился в Александринке, а ведь перед каждым выходом такая лихорадка трясет, что, кажется, так бы и убежал из театра…
— Я никогда так не робел, как нынче…
— Очень понятно! Ты дорожишь успехом, который должен обеспечить тебя и семью твою, а ведь наши кулисы хоть и поганые, но, все-таки, казенные… Впрочем, тебе беспокоиться об успехе очень-то не нужно: ты с протекцией и уже, я так слышал, принят, а этот дебют больше для проформы назначен…
Я расположился в уборной Александра Евстафьевича. Он все время смотрел за моими приготовлениями и, наконец, сам вызвался меня загримировать.
— Ты, поди, наше освещение-то забыл, — сказал Мартынов, — я тебя сам загримирую.
Потом перекрестил меня, поцеловал и выпустил из уборной.
Перед самым выходом, когда сценариус приказал мне готовиться, я оробел неимоверно и не шутя сказал помощнику режиссера П.П. Натарову:
— Я уйду! Я не могу! Боюсь!
— Что вы! Что вы! — заметил он мне с укоризной.
«Ваш выход!» — крикнул сценариус. Я было попятился назад, Натаров схватил меня за руки и вытолкнул на сцену. Оркестр дал аккорд и я запел свой входный номер. Публика заставила повторить, я окончательно вошел в роль и провел ее, как говорили, даже с воодушевлением.
Для проформы я еще сыграл два спектакля. После третьего пришел ко мне в уборную П.С. Федоров.
— Завтра в 10 часов утра, — сказал он, — вас ожидает к себе Борщов.
В назначенный срок я был у Павла Михайловича, встретившая меня словами:
— Ты принят… С сегодняшнего дня начинается твоя служба…
Я счел долгом его поблагодарить.
— Погоди благодарить-то, — перебил он меня, — может быть, в душе-то тебе выругаться надо. Жалованье малое назначаем: шестьсот рублей в год и три целковых поспектакльно, да еще пол-бенефиса. Согласен ли?