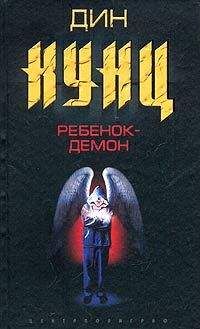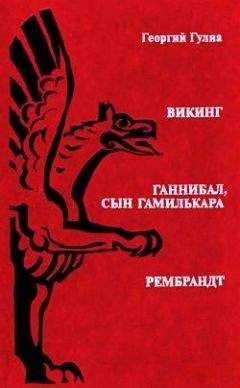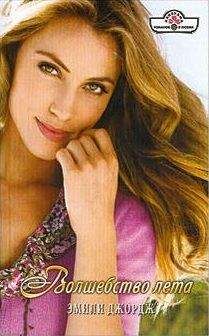Гледис Шмитт - Рембрандт
Несколькими легкими штрихами, без тени насмешки, Ластман исправил явные несообразности и привел рисунок в относительный порядок.
— Вот теперь сразу стало лучше. Всякий раз, когда мы даем себе волю, мы, естественно, заходим слишком далеко, — сказал он, с улыбкой глядя на грушевидное личико мальчугана.
Ларсен и Халдинген работали рядом, и учитель одновременно занялся обоими. Несмотря на посредственные способности, они все-таки могли бы достичь известного мастерства, если бы не были такими инертными: и, вспомнив, как Эльсхеймар поднял его самого от мастерства до подлинного величия, Ластман настолько энергично, насколько это позволял плохо переваренный вчерашний гусь, прочел им нотацию насчет вялости их рисунка. Сегодня в лице Ринске Доббелс им была предоставлена отличная возможность блеснуть, а что они сделали? Он прошелся сангиной по их невыразительным линиям. Вот как надо, вот так, вот так! Подлинный мастер своего дела, будь то даже простой резчик торфа, трепальщик пеньки или горшечник, никогда не позволит себе работать так плохо!.. Когда Ластман отошел от них, у него потеплело на душе от сознания выполненного долга. Теперь он опять может много дней не окунаться в мертвенную атмосферу, царящую вокруг их мольбертов, — всем ясно, что он не столько пренебрегает ими, сколько презирает их, и что виноваты в этом лишь они сами.
Но оставался еще Ян Ливенс, который столь же нетерпеливо, как и раньше, ожидал, когда учитель взглянет на его мольберт. Обойти Ливенса было нельзя, и Ластман заранее упрекал себя за чувства, которые испытывал к своему старшему ученику, вернее, за то, что не испытывал к нему никаких чувств. Обвинять Ливенса в назойливости он был не вправе: молодой человек уже давно отказался от попыток привлечь к себе внимание учителя. Осуждать чрезмерную пышность его живописной манеры он тоже не мог — это значило бы осудить самого себя: манера Ливенса была лишь несовершенной копией его собственной. Но вести себя так, словно то, что умерло в нем, еще живо, он тоже был не в силах: время научит Ливенса хоронить своих мертвых, как научило когда-то его самого. Только время идет медленно, а Ян жадно смотрел на учителя, и тому осталось одно — замереть в притворном восхищении перед работой, которая и в половину не была так хороша, как можно было предположить по выражению его лица.
— Превосходно! Превосходно! — изрек Ластман, повторяя пальцем в воздухе плавную линию, которая получилась у Ливенса вполне приемлемо: начиналась она от затылка Сусанны, текла по спине и терялась в складках драпировки, окутавшей бедра. — Ларсен, Халдинген, идите-ка сюда и посмотрите. Вот это я называю мастерством!
Но этот маневр оказался бесплодным: бессмысленные восторги обоих парней, которых Ластман подозвал только для того, чтобы избавиться от разговора с Ливенсом один на один, не отвлекли и не удовлетворили старшего ученика, по-прежнему смотревшего на мастера сосредоточенным, чуть потускневшим взглядом.
— Если позволите, учитель, — сказал он, и в его голосе впервые зазвучала ирония, — я отниму у вас несколько минут: мне нужно у вас спросить кое-что важное… по крайней мере для меня.
— Конечно, конечно. Ты же знаешь — время для тебя у меня всегда найдется.
— Эта плавная линия… Не кажется ли вам, что я преувеличиваю ее? Я хочу сказать, не кажется ли вам, что я сосредоточиваюсь на ней в ущерб всему остальному?
— Чему именно? — переспросил Ластман и тут же пожалел об этом: раздражение, прозвучавшее в его голосе, плохо согласовалось с сердечностью, которую он изобразил на лице.
— Напряженности, глубине… Не знаю, как сказать.
— А что если мы прервем сейчас этот разговор, а ты на свободе подумаешь и решишь, что имел в виду? — Глаза Ливенса не отрывались от Ластмана, и в их остекленевшем спокойствии что-то поблескивало — быть может, боль, быть может, гнев. — Поговорим завтра, Ян. До тех пор и у тебя и у меня хватит времени обо всем поразмыслить. — Взор Ливенса по-прежнему был неподвижен, только рот как-то странно и некрасиво искривился под темным пушком, покрывавшим верхнюю губу. — Мы все обсудим наедине. Спрячь покамест рисунок, а завтра к вечеру принесешь его в приемную.
Но даже это предложение не удовлетворило Ливенса. Он коротко кивнул, и этот неизящный кивок, плохо вязавшийся с обычной манерностью его движений, успокоил Ластмана. Не стоит принимать все это так близко к сердцу — в конце концов, Ливенс всего-навсего сын бедного лейденского обойщика, хоть и корчит из себя аристократа.
Как можно медленнее, чтобы дать себе время успокоиться, мастер направился туда, где стояли Алларт и Рембрандт. Ластман собирался было вначале выполнить свои обязанности в отношении лейденца, но, очутившись в узком проходе между их мольбертами, не смог больше медлить — ему пришлось повернуться спиной к тернию и лицом к цветку. На шелковистую голову Алларта, слегка склоненную набок в очаровательно смиренной позе, падали лучи солнца; несколько растрепавшихся волосков, ярких, как желтые нити, легли на бледную щеку; на проборе, разделявшем волосы, просвечивала розовая кожа, чистая, как у хорошо ухоженного ребенка. И едва успев обнять хрупкие плечи мальчика, Ластман сразу понял, что уже не может отделить творение от творца, не может не принять в расчет запах дорогого мыла и сухой лаванды, мягкую теплоту тела и негромкое, еле вздымающее грудь дыхание.
Но рисунок тоже был восхитителен — изысканный, полный фантазии, словно омытый сладостными водами душевной невинности. Воображение Алларта разом и без всякого труда оторвало его от Ринске Доббелс. Бросив на нее беглый взгляд, Алларт тут же вернулся в волшебный мир, который, должно быть, распахнула перед ним его мать зимними вечерами в далеком детстве. Глядя на Алларта, Ластман представлял его себе хрупким ребенком в красивом старом доме на Херренграхт: вот мальчик, растянувшись на атласных подушках, лакомится засахаренными сливами и вдыхает благоухание яблоневого дерева, пылающего в камине. Ринске Доббелс превратилась у него в сказочную принцессу, по какой-то необъяснимой и довольно забавной случайности застигнутую нагой. На рисунке было выписано все — и груди, и ягодицы, и даже место, которое не принято называть, но все это было выписано так деликатно, с такой наивностью и облагораживающей отрешенностью, что этот набросок можно было, не колеблясь, повесить над кроваткой ребенка.
— Очаровательно, Алларт, совершенно очаровательно, и так похоже на тебя! Спрячь-ка рисунок в папку. Мне хочется, чтобы ты сделал из него небольшую картину маслом, — сказал художник.
— Но я еще не успел кончить старцев…