Георгий Гулиа - Рембрандт
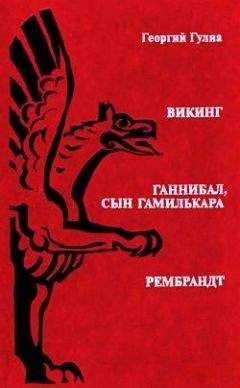
Обзор книги Георгий Гулиа - Рембрандт
Георгий Гулиа
Рембрандт
Год 1669-й. Амстердам. Рассвет четвертого октября
На душе – как на дворе: холодно, дождливо, отвратительно. Улица Розенграхт словно труба – ее насквозь продувает шквалистый ветер. Тяжелые струи беспорядочно летят к земле: то отвесно, то косо, то окатывают окно, пытаясь вышибить стекла и прорваться в мастерскую.
Если спросит кто-нибудь из друзей – доктор Тюлп, скажем, или доктор Бонус, – что болит, трудно ответить, что именно. Вся душа ноет, вся болит, словно кровоточит. Но это же не объяснение… Что, собственно, есть кровоточащая душа? Кровоточит нечто телесное, ну а душа? Может, Тюлп или Бонус поймут. Точнее, догадаются, о чем речь. А прочие? Что может сказать бедненькая юная дочь Корнелия? Ей бы как-нибудь совладать с самой собой…
Наверное, Хендрикье уразумела бы, что это значит: кровоточит душа. И Саския тоже. Хотя у самой кровоточила не только душа, но и грудь.
Каплям вроде бы положено падать с неба отвесно. Но они кружатся на свету у окна, точно хлопья снега. Видимо, против ветра у них сил маловато. А разве он, Рембрандт, не походит нынче на эти капли? Куда его бросает? Что с ним? И что это за злой такой ветер?
Он поворачивается на правый бок. Кушетка скрипит под ним. И она очень похожа на него: у кушетки тоже кровоточит нечто. От старости. От одряхления. И он и она достойны друг друга. Оба скрипят. Обоих злой рок уносит куда-то…
Свеча медленно оплывает. Она догорает. Она тоже чем-то сродни и ему и кушетке…
Когда Корнелия поздно вечером прикрыла дверь в комнату, служившую Рембрандту мастерской, Арт де Гельдер, молодой ученик мастера, сказал:
– Мне не нравится…
– Что? – спросила Корнелия.
– Как он дышит.
Ребекка Виллемс, служанка мастера, добавила:
– Он побледнел.
Корнелии всего пятнадцать. Она не обратила внимания ни на цвет лица, ни на дыхание.
– Разве он не устал? – спросила она.
– И усталость тоже, – со значением сказала Ребекка.
– Может, мне посидеть с ним?.. – Арт в свои двадцать пять лет в глубине души тоже полагает, что учитель очень, очень устал. Может, все от этого и проистекает…
Корнелия подымает лампу повыше. Она вопросительно глядит на Ребекку.
– В такую погоду, – говорит Ребекка, – даже здоровяки валятся с ног.
– Да, погода неважная, – говорит Арт. Он колеблется; посидеть с учителем или…
– Ему нужен покой, господин Гельдер.
– Да, – говорит Корнелия, – господин Тюлп так и сказал.
– Бонус тоже…
Тюлп и Бонус расстались на площади Дам. Их ждали экипажи. Тяжелые капли воды плюхались на мостовую и текли ручьями.
– Отвратительная погода, – сказал Бонус. – Мои пациенты помучаются в эту ночь.
– А господин Рембрандт? – спросил Тюлп.
– Он болен?
– Он плох.
– Навестим его.
– Завтра же, – сказал Тюлп.
И они разъехались по домам.
Но разве господин Рембрандт болел? Он просто жаловался на усталость. Ведь это неудивительно в шестьдесят три года.
Удивительно было другое: если бы мастер после всего пережитого и после прожитых лет не жаловался на усталость!
Но что же все-таки с мастером? Он притих на кушетке. Он смотрит на противоположную стену, увешанную картинами… Одна, другая, третья… А вот и он сам… Такой старичок. То ли смеется, то ли вот-вот заплачет… Такой старый, такой морщинистый. То ли добрый, то ли больной. И оттого эта странная полуулыбка, полуплаксивая гримаса.
Мастер не пощадил себя. Изобразил то, что видел в зеркале… Жалкий старикашка на стене! Смотрит на мир и делает вид, что улыбается. Но разве это улыбка? Разве можно улыбаться после стольких смертей?.. Сначала отец, потом мать… Потом дети – один за другим… Потом – милая, милая Саския… А потом – милая, милая Хендрикье… Удар за ударом… Но, боже, зачем же этот, последний? За что испепелил молодого бесценного Титуса? И на кого оставил одинокого старикашку?.. Который гримасничает на холсте на стене…
Рембрандт щурит глаза, чтобы лучше видеть этого старикашку, вынырнувшего из тьмы…
Ребекка как-то спросила Арта:
– Господин Гельдер, зачем это он?.. А? Неужели ему нравится этот страшный старик?
Арт растирал краски. Он сказал:
– Он пишет то, что видит. Он не желает приукрашивать. Это же его правило. Правило всей жизни.
– Очень уж старый этот. Некрасивый.
– Так оно и есть, Ребекка.
– И смешной.
– Разве?
Арт уставился на портрет. Возможно, что учитель лишнего наговорил на себя. Безо всякой жалости к себе. И к близким.
– Смешной, говорите?
– Да, – сказала Ребекка. – Смешной. Ублюдочный. Зачем это он? А?..
Старичок на стене и в самом деле веселился. А по сердцу его, наверное, текли слезы… Кровавые…
Корнелия поднялась к себе наверх по крутой лестнице. В ночь на четвертое октября.
Тесная квартира, и лестница под стать ей: узенькая, двоим не разойтись. А ей говорили, что родилась она в богатом доме богатого отца. Возле шлюза святого Антония. В конце улицы Бреестраат, что значит – Широкая. Она не помнила того дома. Ей было два года, когда отца с матерью выселили. И знала она только улицу Розенграхт. Улица как улица, и дом как дом. Только смешно грязный канал и улицу обзывать Розовыми. Но отец очень страдает, когда ему напоминают про тот дом и про ту, Широкую, улицу. Покойная мать говаривала:
– А когда мы жили в шикарном доме на Бреестраат…
Или:
– Когда мы глядели из чудесного дома на Бреестраат…
Или:
– Когда наш огромный дом на Бреестраат был полон гостей…
Или еще:
– Тот дом вовсе не чета этому… И улица тоже…
Но мать при этом не вздыхала горестно. Она была стойкая. Ей везде было хорошо с отцом…
Корнелия говорит Ребекке:
– Что-то сердце у меня ноет.
Ребекка смеется:
– И ты подражаешь старшим. Это погода такая. Ты же знаешь – она у нас чудная. Даже летом дурацкая. Моя мать часто жаловалась на головные боли. Вот ни с того ни с сего вдруг голова начинает разламываться. Просто надвое.
– А вы заметили слезы на глазах?..
– У господина Рембрандта?
– Да.
– Это тоже от погоды.
– А почему он держался за грудь?
– Тоже от погоды.
Ребекка – такая толстушка с пунцовыми щеками – старается подбодрить девушку:
– Корнелия, ты чересчур преувеличиваешь. Старики охают, когда погода меняется.
– Отец всегда казался крепким. Даже когда хоронили Титуса, он был словно каменный.
– Это и плохо, Корнелия. Нехорошо все держать в себе. Слезы, говорят, бывают целебными. С ними выходят неприятности, которые теснят грудь.
– Почему он улегся в мастерской среди красок и холстов?
– Там ему приятней.
– Нет, Ребекка, он просто не смог бы одолеть эту лестницу.
Ребекка изумилась:
– Лестницу? Да он писал нынче так, как никогда. Стоял у холста, водил кистью все утро, весь день. Вот увидишь: завтра спозаранок мы застанем его у мольберта. Поверь мне!
– Может, пойти к нему?
– Это его взбудоражит.
Корнелия уселась на постель.
– Ребекка, посмотри, как он там.
Служанка живо спустилась по лестнице. Внизу столкнулась с Артом. Он только что отошел от двери, за которой спал художник.
– Спокоен, – сказал он.
– Спокоен, – передала Ребекка Корнелии.
Это было в ночь на четвертое октября…
Да, мастер был спокоен. Если не считать теснения в груди. Если не считать тупой боли в висках. Если пренебречь уколами в горле, которыми безжалостно награждал его некий злодей…
Но этот старичок на стене немного веселил его. Чудной старик, которому все уже нипочем. Он знает всему цену, он прошел сквозь огонь и воду. Знал парение птиц и падение их на землю. Все знал, все пережил и – нате вам! – полустрадальческая усмешка клоуна, который умнее тех, кто с интересом будет рассматривать его. Вот он вышел из темноты, стал на золотистом свету, обрел цвет золота и – смеется с морщинистой лукавой гримасой. Ему на все наплевать с высокого дерева.
А в дальнем углу стоит мольберт с наполовину записанным холстом. Он ждет мастера. Но дождется ли?
Рембрандт переводит взгляд на противоположный угол. Там темным-темно. Там совсем беспросветно…
В таверне сидят изрядно постаревшие амстердамские ополченцы. Среди них Баннинг Кок и Виллем ван Рейтенберг. Они пьют вино – прекрасное французское вино, – точно так же, как и четверть века тому назад. Рейтенберг – уже с брюшком. Баннинг Кок, можно сказать, сильнее поддался течению времени. Но стариком его пока не назовешь.
– Помните, – говорит Рейтенберг, – как мы однажды сидели на этом же самом месте и нашему капитану пришла мысль заказать портрет роты?
– Еще бы! – отозвался кто-то.
– Портрет писал сам Рембрандт, – сказал Баннинг Кок, покручивая ус.
– Какой такой Рембрандт? – спросил безусый стрелок.
– Был такой…
Рейтенберг:
– Он жив?



