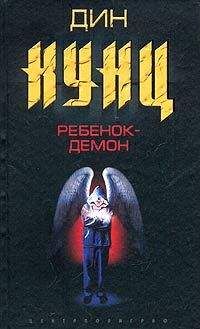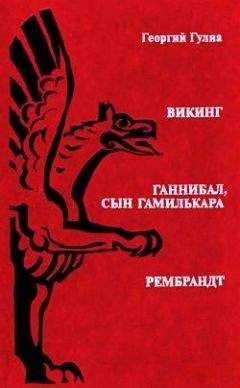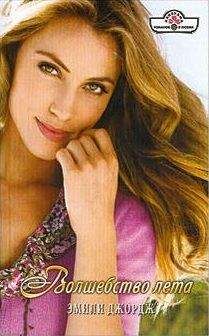Гледис Шмитт - Рембрандт
— Не забывайте, что Сусанна — изящная молодая дама и добродетельная супруга, любящая и любимая, — напомнил учитель со своей античной мраморной скамьи.
Любящая и любимая? Рембрандт негромко фыркнул. Эта женщина, захватанная руками пьяных матросов и канатных мастеров в дешевых тавернах, насилуемая хозяином или его сынком на черной лестнице за те пять-шесть пенни, которые ей так часто сулят и так редко дают, — изящная молодая дама?
Алларт робко придвинулся к нему. Рембрандт повернул голову, посмотрел через плечо, и в глазах его сверкнула такая неуемная лихорадочная одержимость, что — он сразу же понял это — его дикий взгляд испугал кроткого бюргера.
— Что тебе, Алларт?
— Ничего… Я просто хотел посмотреть, что у тебя вышло. Да это же замечательно! Понимаешь, она у тебя подлиннее, чем в жизни. Но не лучше ли немного… э-э… смягчить ее, раз предполагается, что она Сусанна?
Но Рембрандту было уже не до Сусанны. Глядя на контуры выдуманного им образа, все еще проступавшие на бумаге, он чувствовал, что, не уничтожив их, совершит предательство по отношению к новому лицу, к той честной в своем безобразии голове, которую он нарисовал теперь. Он провел по мольберту рукавом грубой ворсистой куртки и начисто стер неясные линии.
— Да, пожалуй, смягчу, — согласился он, хотя понимал, что его слова не вяжутся с полубезумным видом и звучат глупо. — Понемногу я все приведу в порядок, — добавил он, продолжая рисовать точно так же, как прежде.
Затем, — вероятно, потому что, еще приступая к работе, он был уже вконец обессилен и поддерживала его лишь неистовая увлеченность своим открытием, — Рембрандт ощутил внезапную усталость. Он положил сангину на край мольберта, вздохнул и закрыл глаза. А когда он снова открыл их, ему почудилось, что мастерская стала какой-то незнакомой, словно он глядел на нее сквозь толщу воды: оттого что он так долго и возбужденно всматривался в модель, да еще выслушал благожелательное предостережение Алларта, глаза его заволокло влагой. Он еще раз взглянул на свой рисунок через эту мерцающую пелену. Смягчить его? В том смысле, в каком предлагает Алларт, — конечно, нет; но кое-что изменить все-таки нужно, особенно в лице. Как он ни подавлен сознанием своей грубости, как ни уязвило его неудовольствие учителя, его сердце и разум могут сказать больше, чем страдальчески говорит у него эта Ринске Доббелс. Могут сказать и скажут. Он снова схватил сангину и начал отделывать усталый рот, тяжелые веки, бесцветные водянистые глаза.
Где-то на колокольне раздался бой часов, но Рембрандт даже не остановился, чтобы сосчитать удары: он сейчас слишком занят вот этой вздувшейся на виске веной. Железный звон гулко разносился в тишине жаркого августовского полдня. Натурщики никогда не позировали больше часа, и время Ринске, несомненно, уже подходило к концу. Спина и шея ее согнулись еще больше, чем вначале, шершавые ягодицы начали нервно подергиваться, терпеливое лицо окончательно окаменело. Отерев рукавом вспотевший лоб, Рембрандт отступил на шаг, посмотрел на мольберт и понял. Одно из двух: этот рисунок либо шедевр, которого еще не видывала мастерская Ластмана, либо мерзкая, безвкусная и жестокая пакость. Смягчить его? Смягчить решительные линии, высветлить причудливое плетение растрепавшихся волос, стереть следы, оставленные на теле подвязками и шнуровкой? Нет, ничто, даже огорченные серо-голубые глаза Алларта, не заставит его пойти на это. И потом уже поздно: учитель, подавляя зевок, говорит:
— Хорошо, Ринске, теперь можешь одеться. Деньги получишь у Виченцо. Благодарю за услугу.
Запахнувшись в непривычно роскошное для нее алое платье, Ринске направилась к двери. Когда она проходила мимо его мольберта, Рембрандт встал перед ним и непроизвольно заслонил свой рисунок. Зачем ей видеть себя такой, какой ее увидел он? Зачем ей, склонясь над корытом или растянувшись измученным телом на постели в час милосердного сна, вспоминать все это уродство и опустошенность? У дверей она на мгновение задержалась, взглянула на красивую знатную женщину, которую сделал из нее Ян Ливенс, расплылась в бессмысленной и фальшивой улыбке, и Рембрандт с ноющей грустью подумал, что любое убожество, даже мазня, красующаяся на мольбертах Ларсена и Халдингена, понравится ей больше, чем то, что с таким трудом и с такой безмерной жалостью создали его сердце и разум.
— Что с тобой? — спросил, подбегая к нему, маленький Хесселс, чье грушеобразное личико было густо выпачкано кирпично-красной сангиной. — Почему ты прячешь рисунок? Неужели не дашь посмотреть?
— На, смотри. Только, по-моему, тебе не понравится.
— Почему не понравится? Почему?
— Потому что это никому не понравится.
В душе Рембрандт, разумеется, не верил своим словам: будь на самом деле так, он бы взял веревку, пошел в подвал, где Виченцо хранит вино, и повесился. Но когда так говоришь, становится легче — надо же дать какой-то выход переполняющим тебя чувствам.
— А почему это должно нравиться? — спросил он, вызывающе глянув через плечо на смятенное лицо сотоварища, ходившего в любимчиках у учителя. — Человек такая тварь, которая редко любит правду.
* * *Питер Ластман встал с мраморной скамьи и медленно подошел к ученикам. Ему не хотелось давать оценку их «Сусаннам» — эта минута, которая могла бы достойно завершить для него утро, минута, предвкушение которой преисполняло его грузное тело и пробуждало отупевший мозг, минута, когда он надеялся, наконец, увидеть, что́ Алларт ван Хорн способен сделать из обнаженной женской фигуры, была для него заранее омрачена. Изящный юный бюргер, повинуясь порыву своего доброго сердца, придвинул мольберт так близко к мольберту лейденца, что на его рисунок нельзя смотреть, не портя себе все удовольствие созерцанием наброска его соседа. Как бы там ни было, думал Питер Ластман, ощущая во рту кислый вкус выпитого ночью вина, он постарается подальше оттянуть эту минуту. И он прошел мимо Хесселса, стоявшего так близко от места, где позировала натурщица, что густой августовский воздух был там, казалось, пропитан запахом женского тела.
Рисунок Хесселса, хотя и выполненный широкими размашистыми штрихами, как советовал учитель, был неумел и до смешного лишен каких бы то ни было пропорций — не женщина, а сплошные ягодицы и груди. Явная растерянность мальчика помогла Ластману удержаться от смеха: нет сомнения, что бедный малыш в первый раз увидел сегодня голую женщину. До чего же он трогателен. Сколько надежд он, вероятно, возлагал на обещанное зрелище и сколько оскверненных, расслабляющих ночей придется ему пережить, прежде чем он поймет, что женщины совсем не такие, какими он их себе представлял! А проявить внимание к Хесселсу совсем нетрудно — нужно только обнять рукой его хрупкие плечи и, не вдаваясь в подлинно серьезные разговоры о преувеличениях в рисунке, взять мел и самому исправить ошибки.