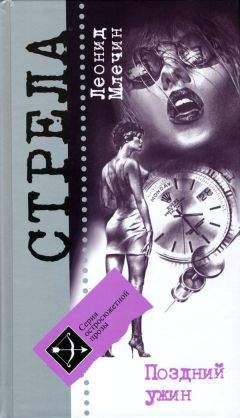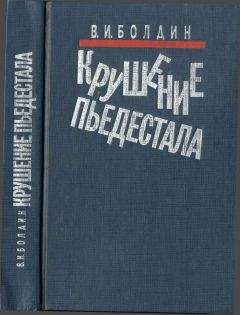Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
Весна прошла под знаком капитального ремонта и «перекапывания» сада. Мария Степановна в этих житейских сферах была незаменима. Всю свою безграничную энергию она выплеснула на хозяйство, препирательство с рабочими, лазанье по деревьям «с обрезкой», хотя не так давно перенесла серьёзную операцию. Конечно, сдавали нервы, порой выходила из себя. «Маруся захлопоталась, завертелась, утомилась, — сообщает поэт Габричевским, — письма перестала писать и кусается, иногда дерётся». Да, Маруся была женщиной «из простых», могла ругнуться, могла и кулаками поразмахивать. Не случайно отдельные коктебельские постояльцы говаривали: «Не так страшен Макс, как его Маруся». Доставалось от неё и любимому мужу. В дневнике Волошина от 14 марта 1926 года запечатлён весьма выразительный монолог Марии Степановны: «Всё акварельки пишешь? Кому это нужно? Ведь это значит ничего не делать. Это г… (крепкое слово). В такое время, когда люди борются за жизнь… Целые дни убивать на это… Сидишь, водишь кисточкой… Гуляй, пиши. Распредели день. Встаёшь в таком-то часу, до такого-то пишешь. Плохо ли? Хорошо? Это неважно. Сперва будет бездарно, потом втянешься. А на акварели оставишь 2 часа в день и ни минуты больше…» Примерно тогда же она пишет: «Какое счастье, что я около Макса! Господи, какой это большой человек! Мне иногда хочется записывать его слова, мысли. Сколько их падает и утекает напрасно. Ведь очень мало кто знает Макса-человека… Сколько в нём терпимости, мудрости, благородства и бесконечной честности и деликатности к людям. Как хорошо он думает и мыслит о человеке»… Что ж, немало примеров волошинского человеколюбия, надеюсь, даёт и эта книга…
Первый гость в Доме Поэта появился уже в марте. Это был Виктор Успенский, сын гимназической подруги Маруси — Веры Успенской и небезызвестного Бориса Савинкова. А 19 апреля, холодным, пасмурным днём, в Коктебель прибывает Зинаида Ивановна Елгаштина, балерина, ученица В. Ф. Нижинского. «Блистательна, полувоздушна…» Волошин откровенно любовался её красотой и грацией. Балерина же поначалу была смущена: «Дом стоял вблизи прибрежных песков, и волны, пенясь на гребнях, достигали чуть ли не самых его стен. В саду работник-отрок, в тёплых брюках и куртке, в чёрном суконном шлеме, вскапывал клумбу. К нему я и обратилась с вопросом, которая из многочисленных дверей ведёт в помещение поэта Волошина. „Мой муж, — ответил отрок, — поэт, художник и философ“. Мария Степановна указала на одну из дверей. В комнате, куда я вошла, навстречу мне поднялся сидевший за письменным столом человек. Казалось, все разлитые вокруг силы нашли средоточие в его существе. Одетый в костюм туриста, в своих тонах повторяющий местный пейзаж, Волошин производил впечатление странника, одиноко идущего среди окружающей его жизни. „Ждём с утра, — заговорил он оживлённо, — беспокоимся, не застряли ли вы“. Максимилиан Александрович обладал необычайной мягкостью и приветливостью в обращении, что сразу располагало к нему».
Первое удивление было тут же развеяно, и началось общение. Уже вечером Макс изучал привезённые ленинградской гостьей абстрактные аппликации из цветной бумаги — композиции, выражающие музыкальные мотивы. Вскоре женщины ушли спать, а Волошин остался поддерживал огонь в печке. Усиливался шторм, под напором ветра вздрагивали стены дома. «В открытую дверь в полумраке я видела его ходящим по комнате. Этой ночью я поняла, что всё происходящее вокруг и было его настоящей жизнью: среди стихийных сил природы жила и властвовала его мысль».
На другой день Зинаида Ивановна вступила в мир Коктебеля. Максимилиан Александрович, как всегда, выступил гидом. «То был мир его акварелей: Коктебель — страна разлитого света, призрачных, тающих очертаний. И Волошин ревниво охранял этот мир. „Смотри, — говорил он, останавливаясь в некоторых местах, — не води сюда никого“». Стареющий поэт и молодая балерина каждый день отправлялись в горы или бродили по степи. «В этих странствиях узнавала я Максимилиана Александровича тем мальчиком, что, приехав в Коктебель, дружил с чабанами, в горах жёг с ними костры. Исходил все тропы, облазил утёсы, знал, что скрывает каждая расщелина их. Из Феодосии… шёл пешком в Коктебель, в пути подолгу просиживал на холмах, поклоняясь, как чуду, взлёту зубцов Карадага. На одном из этих холмов мы были как-то вечером. „Здесь на закате похоронят меня“, — сказал Волошин. Он указал место, где должна быть вырыта ему могила».
Ещё никогда и ни с кем девушка не совершала столь длительных и задушевных прогулок. Когда становилось знойно, она опускалась на колени и пила капли росы, скрытые в листьях пионов. Массивная фигура Макса мешала ему наклоняться, и Зинаида, сорвав листья, подносила к губам поэта живительные капли.
«Гуляя, Максимилиан Александрович шёл обычно молча, — вспоминает она. — Иногда он только останавливался и стоял, словно прислушиваясь, что происходило в нём самом, и соразмеряя это с окружающим. Мысль его работала с таким напряжением, что была ощутима и мною. Могучим взмахом вырывалась она на простор и, торжествующая, ликующая, неслась и рассыпалась средь неизмеримых пространств. Для меня мысль Волошина была нечто живое, осязаемое, зримое в полёте. Походка Максимилиана Александровича отличалась исключительной лёгкостью, бегом спускался он с гор. У него была маленькая стопа, маленькая и властная рука».
На прогулках Макс всегда противопоставлял свои родные места остальному миру. «Москва — большая деревня», — говорил Волошин, утверждая, что жить он может только в Коктебеле. Это был мир чудес и воспоминаний о греческих поселениях IV века. Все мшистые яблони и груши на горах он считал остатками греческих садов. Зачем ехать в Москву и Ленинград, недоумевал поэт, когда весь цвет литературы и искусства собирается у него здесь, в Коктебеле.
Не обладая хорошим музыкальным слухом, Волошин имел абсолютное чувство ритма и к идущей рядом балерине относился очень трепетно, заинтересованно. «Максимилиан Александрович придавал большое значение искусству танца как выражению общей художественной культуры народа. В статье „Бельведерский торс“… М. А. пишет: „Римляне лишь смотрели на танцы, греки танцевали сами“. И далее он сопоставляет две культуры: римскую „солдатскую“ и культуру античного мира. Он ценил телодвижения человека как выражение его ритмического начала. Часто просил меня пройти вперёд, а затем идти ему навстречу. Стоял и смотрел. В его восприятии я не шла, а ступала по земле… Ещё ярче М. А. воспринимал движение рук. Их струящийся ритм. Одно из его любимых мест — источник на Святой горе. Вода там холодная, водоём затенён. Здесь он всегда пил, причём отходил от водоёма и стоял. Я должна была зачерпнуть воды и в чаше рук поднести ему. Говорил, что это и есть настоящее утоление жажды и из этого движения человека родилась античная чаша… М. А. не любил классический танец, формы его казались ему мёртвыми. Подлинный танец он видел в творчестве Дункан. А на моё движение, принимавшее Коктебель, смотрел он с какой-то радостью».