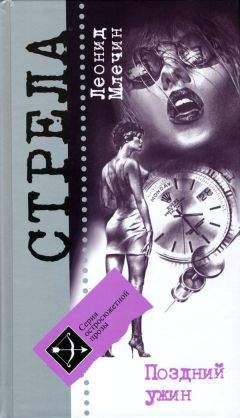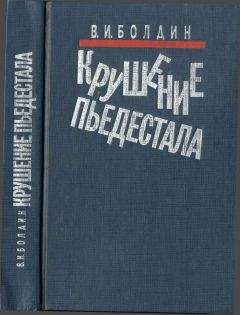Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
(М. Волошин. Дом Поэта. 1926)».
В прозе же выглядело более буднично и деловито: «Прислуги нет. Воду носить самим. Совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придётся „ко двору“, становится полноправным членом. Для этого же требуется: радостное приятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни»… Молодая дама, имеющая склонность к поэзии, рассчитывала увидеть в хозяине Коктебеля нечто вроде юноши Ленского — «всегда восторженная речь и кудри чёрные до плеч». А перед ней предстал «могучий человек с брюшком, в длинной подпоясанной рубахе, в штанах до колен, широкий в плечах, с широким лицом, с мускулистыми ногами, обутыми в сандалии. Да и бородатое лицо было широколобое, широконосое. Грива русых, с проседью волос, перевязана по лбу ремешком — и похож на доброго льва с небольшими умными глазами. Казалось, должен говорить мощным зычным басом, но говорил он негромко и чрезвычайно интеллигентным голосом… В тени его монументальной фигуры поодаль стояла небольшая женщина в тюбетейке на стриженых волосах… Всем своим видом напоминала она курсистку начала века с Бестужевских курсов…». Читали стихи, гуляли, поднимались на Карадаг. Булгаков, увы, не был любителем активного отдыха: «Мы всё больше ходили по бережку, изредка, по мере надобности, купаясь. Но самое развлекательное занятие была ловля бабочек. Мария Степановна снабдила нас сачками»… Поднимались на Карадаг. «Впереди необыкновенно легко шёл Максимилиан Александрович. Мы все пыхтели и обливались потом, а Макс шагал как ни в чём не бывало, и жара была ему нипочём. Когда я выразила удивление, он объяснил мне, что в юности ходил с караваном по Средней Азии.
Карадаг — потухший вулкан.
Из недр изверженным порывом,
Трагическим и горделивым,
Взметнулись вихри древних сил…
Такие строки у Волошина.
Зрелище величественное, волнующее. Застывшая лава в кратере — да ведь это же химеры парижской Нотр-Дам. Как сладко потянуло в эту живописную бездну!
— Вот это и есть головокружение, — объяснил мне Михаил Афанасьевич, отодвигая меня от края».
Как-то раз в Коктебеле появился «сосед», проживающий в Старом Крыму, — Александр Грин. Ему очень хотелось познакомиться с Булгаковым. Это был «бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, похожий на капитана большого речного парохода. Глаза у него были тёмные, невесёлые… Я с любопытством разглядывала загорелого „капитана“ и думала: вот истинно нет пророка в своём отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом далёких фантастических стран. Явление вообще в нашей „оседлой“ литературе заманчивое и редкое, а истинного признания и удачи ему в те годы не было». Грин с женой звали к себе в гости, на пироги, но визит в Старый Крым почему-то не состоялся.
Из женского населения волошинского дома Любови Евгеньевне больше других запомнилась Наталия Алексеевна Габричевская, жена упоминавшегося искусствоведа А. Г. Габричевского, в которой, уже в зрелом возрасте, проснулся талант художницы-примитивистки. Эффектная, раскованная в поведении, любительница пикантных куплетов. Из окна нижнего этажа, где жили Габричевские, нередко раздавались взрывы здорового мужского смеха. «К женщинам иного плана она относится с лёгким презрением, называя их, как меня, например, „дамочкой с цветочками“. Раз только и ненадолго мы с ней объединились: на татарский праздник (байрам, рамазан? — уж не помню) в Верхних или Нижних Отузах, надев на себя татарское платье, мы вместе плясали хайтарму (и плясали плохо)…»
Л. Е. Белозерская признаётся, что «яд волошинской любви к Коктебелю» проник и в её кровь, но вот её муж «оставался непоколебимо стойким в своём нерасположении к Крыму». Да и особой любви к поэзии у Булгакова не было, хотя он «прекрасно понимал, что хорошо, а что плохо, и сам мог при случае прибегнуть к стихотворной форме…».
Да, автор «Собачьего сердца» явно предпочитал стихотворным чтениям ловлю бабочек. Взбирался с женой на ближайшие холмы и забавлялся, как ребёнок:
— Держи! Лови! Летит «сатир»!
«Я взмахиваю сачком, но не тут-то было: на сухой траве здорово скользко и к тому же покато. Ползу куда-то вниз. Вижу, как на животе сползает Михаил Афанасьевич в другую сторону. Мы оба хохочем. А „сатиры“ беззаботно порхают себе вокруг нас». Позже Любовь Евгеньевна узнает от сестры писателя Надежды, что Булгаков в студенческие годы очень увлекался бабочками, а коллекция его была подарена Киевскому университету.
«Жили мы все в общем мирно, — вспоминает Л. Е. Белозерская. — Если не было особенно дружеских связей, то не было и взаимного подкусывания. Чета Волошиных держалась с большим тактом: со всеми ровно и дружелюбно»… Потом Булгаковы ещё пару раз наведывались в Крым, бывали в Мисхоре, Судаке, Алупке, Ялте, Севастополе. Но Коктебеля избегали. Волошин же, судя по всему, высоко ценил Булгакова. На одной из его акварелей, подаренных писателю, осталась надпись: «Первому, кто запечатлел душу русской усобицы».
Но о вкусах не спорят…
Любили Коктебель поэты, художники, планеристы, археологи. Каждый открывал там свой мир, находил что-то ценное для себя. На плато Тепсень велись раскопки. Даже в XX веке обнаруживались диковинки. При непосредственном участии Максимилиана Александровича был извлечён из земли «фрагмент пифоса»… Привет из античности… Редкостная находка официально была сдана на хранение Волошину. Писались по этому поводу стихи, разыгрывались спектакли…
Но настоящее празднество разворачивалось в день рождения поэта —28 мая (16-го по ст. ст.). Звучали голоса Гомера и Сафо, Ронсара и Шекспира, Пушкина и Лермонтова, Бодлера и Малларме, Клоделя и Ренье, которых озвучивали Сергей Шервинский, Александр Габричевский, Георгий Шенгели, Евгений Ланн, искусствовед Алексей Сидоров, переводчик Лев Остроумов… Проходило «состязание поэтов в сонетах о любви, иллюстрированное живыми картинами». «Соломон и Суламифь», «Дон Жуан и Смерть», «Адам и Ева», «Франческа и Паоло», «Леда», «Зигфрид и Валькирия»… А «Филемона и Бавкиду» заставили изображать самих Макса и Марусю. Иногда эти художественные мероприятия затягивались на несколько дней.
За лето 1925 года в Доме Поэта перебывало 400 человек… и это «уже сверх человеческих сил»; при таком раскладе поэт был «совсем не в состоянии ни себя отдавать, ни в себя принимать». Да и здоровье хромает; Макс тревожится, что уже не выкарабкается. Пора и итоги какие-то подводить. «Отпевая» в стихах астронома В. К. Цераского, поэт, может быть, подразумевает и себя: