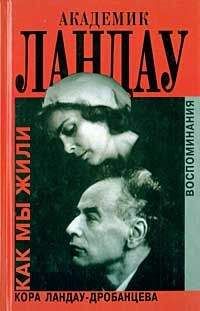Лев Хургес - Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка
Познакомился я со столовой: харч нормальный, суп наваристый, каша с растительным маслом, порции тоже нормальные. Что ж, думаю, жить здесь можно, бывало и похуже, тем более что осталось-то всего меньше двух недель. Шеф мой – Хруцкий, по национальности поляк, парень моего возраста или чуть моложе. Мы с ним быстро нашли общий язык, и хотя до этого я никогда на телефонных станциях не работал, но он обещал меня натаскать, чтобы я после освобождения остался здесь в качестве вольнонаемного начальника связи. В руководстве завода было немало бывших зэков, что его, Хруцкого, вполне устраивало, потому что срока у него самого осталось еще порядком. Вот так и зажил я на мехзаводе в Рыбинске. Ходил по кабинетам начальства, менял неисправные телефонные трубки, телефонные шнуры. Всякое начальство имеет свойство по своей нервности крутить шнуры и в сердцах швырять телефонные трубки, а они этого не любят. Дела мне хватало, и работа непыльная, а иногда бывал и навар: пачка махры или несколько папирос, а то и пайка хлеба или даже сахару кусок за срочный ремонт.
В мае 1945 года, единственный в жизни раз, выпало на мою долю полное солнечное затмение[244]. Приготовили затемненные стекла и все остальное – с утра вроде ничего, небо чистое, солнышко видно хорошо, а перед самым затмением небо затянуло тучами. Так ничего и не увидели, только сразу потемнело, как поздно вечером. Вот тебе и все затмение!
Срок мой уже подходил к концу, когда я узнал пренеприятнейшую новость: оказывается, контрики, осужденные в 1937 году и позже до войны, даже на пять лет, несмотря на то что сроки у них кончались уже в 1942 году, не освобождаются, а задерживаются «до особого распоряжения». И хотя война уже закончилась, их все еще не отпускали. Когда придет это «особое распоряжение» никто, конечно, не знал. Зашел я как-то во Вторую часть узнать, но начальница мне вдруг заявила: поскольку мой срок еще не истек, то и беспокоиться мне пока еще преждевременно. С этим я от нее ушел и стал ожидать 31 мая 1945 года.
Накануне меня вызвали во 2-ую часть. С трепетом душевным шел я туда. Неужели свобода?!.. Конец всем моим мытарствам по тюрьмам и лагерям, и если меня, конечно, не пустят в Москву или в другой крупный город, то ведь в какой-нибудь тьмутаракани я сумею свободно ходить, не чувствуя за спиной ни конвоира, ни провожатого с собачкой!
Захожу. Начальница, опросив меня по ГУЛАГовскому ГОСТу, дала мне расписаться в типографским образом отпечатанном бланке (и, видно, немалым тиражом) в том, что «в связи с окончанием срока приговора» я задержан «до особого распоряжения». Хотя я и был внутренне подготовлен к этому, но в душе еще теплилась искорка надежды на освобождение. Тут она окончательно погасла, ведь я знал, что этого «особого распоряжения» многие ждут еще с 1942 года. Начальница, поняв мои переживания, конфиденциально утешила меня, что теперь, в связи с окончанием войны, этого распоряжения можно ожидать со дня на день. Оформив отсрочку моего освобождения, она сообщила мне, что я попал на мехзавод ошибочно и что по наряду IV спецотдела НКВД я был направлен в расположенный поблизости лагерь Переборы, обслуживающий эксплуатацию Рыбинского моря, где я должен был работать по специальности – по изготовлению распределительных щитов слаботочной сигнализации. Поскольку я уже неплохо устроился на заводе, я попросил остаться здесь до «особого распоряжения», но начальница категорически заявила, что оставлять меня на мехзаводе она не имеет права.
7
На следующий день в сопровождении конвоира я уже следовал пешим порядком на Переборы. Идти было километра три и примерно за час мы туда добрались. Переборы – большой, вполне благоустроенный лагерь, в нем находился подобный Свободлагу для строительства БАМ центральный ОЛП («генеральный штаб») сооружения Рыбинского моря. Просторные бараки, койки со всем «прикладом», на окнах марлевые окрашенные акрихином в лимонный цвет занавески. Столовая – почти как вольная: столы с пластиковой облицовкой, и даже стулья вместо привычных скамеек или табуретов. Иногда на столиках появлялись букетики полевых цветов (дело-то было в начале лета), а главное – суп наваристый, густой, да и каши давали прилично. Особого голода я здесь уже не чувствовал.
На высоте и культработа: здесь почти в полном составе находился театр народного артиста СССР Радлова во главе с ним самим[245]. Ставятся различные муз комедии и, конечно, на высоком профессиональном уровне: попробуй-ка поставь хуже, начальство – это не столичные критики: сразу разберется, и насидишься в ШИЗО, хоть ты и Радлов.
Из всех артистов мне запомнилась талантливейшая Нелли Поль: тоненькая как тростиночка, с огромными серыми глазами. Худа она была настолько, что вполне соответствовала кондициям колымских доходяг. И в чем только душа держится, но на сцене она преображалась: не были заметны ни ее худоба, ни несовершенства костюма. Это был самый настоящий капризный прапорщик женского пола из «Свадьбы в Малиновке» и вообще, какую бы она ни играла роль, она абсолютно входила в образ. Нелли прекрасно пела, танцевала.
Спектакли и киносеансы на Переборах бывали довольно часто, раз-два в неделю. Я, по мере возможности, никогда их не пропускал. Зал в клубе был примерно на 300–500 человек, более половины мест на спектаклях были заняты лагерным начальством и их семьями. При этом вели они себя, как им и полагалось по умственному развитию, по-хамски: курили, отпускали вслух всякие скабрезности и так далее.
Моя новая работа не требовала больших затрат энергии. Меня направили в электромеханическую мастерскую, где была организована бригада из трех человек по монтажу щитов слаботочной сигнализации.
До меня здесь уже работало двое зэков: женщина – радиоинженер и бывший главный инженер Рыбинского мехзавода, откуда я сюда прибыл. Он был осужден на десять лет. Рассказывали, что на нем с самого начала держался весь завод, а директор был просто номинальной величиной. Авторитетом главный инженер пользовался огромным, часто принимал весьма рискованные решения, прижимал своих подчиненных иногда так, что завел себе на заводе предостаточно недругов. Когда директором был назначен полковник Конахистов, человек тоже с характером, то директорские замашки главного пришлись ему не по душе. Но понимая, что по эрудиции и знанию производства он ему и в подметки не годится, Конахистов до поры до времени молчал, но «материалец» накапливал. Когда на заводе случилось очередное ЧП и стали искать крайнего, директор, нажав на пружины своих дружков по НКВД, сам выкрутился, а главному сунули «баранку». После осуждения бывшего главного, уже в качестве зэка, долго уговаривали остаться на заводе, обещали всевозможные поблажки, почти вольную жизнь, фактически оставили прежнюю работу, возможность продолжать семейную жизнь (его жену – Марью Николаевну, милейшую женщину, с которой я иногда встречался, работая на телефонной станции, даже оставили на прежней работе – секретарем директора), но бывший главный уперся: «Нет!».