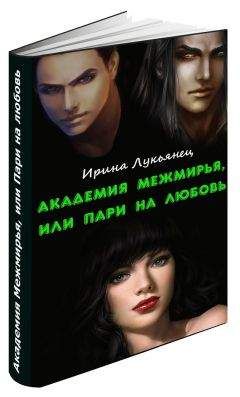Николай Карабчевский - Что глаза мои видели. Том 1. В детстве
Так как сначала она не знала ни слова по-русски, это много способствовало нашим успехам и мы очень скоро стали свободно болтать по-французски, тем более непринужденно, что и мама с нами иначе не разговаривала в присутствии mademoiselle Clotilde.
И впоследствии, когда последняя уже недурно усвоила русский язык, она говорила на нем только с прислугой.
Когда я пытался учить ее русским словам, она всегда говорила: «laissons cela. Je ne suis pas ici pour etudier le russe, mais pour vous enseigner le francais».[11]
В самые первые годы жизни, судя по рассказам домашних, я был довольно слабым, чуть ли не болезненным ребенком.
По крайней мере говорили, что меня и «сажали в горячий песок», и возили на бойню, где делали ванны из какой-то «требухи». Эту слабость упорно приписывали тому, что «беглая Ганка» меня не докормила и что некоторое время меня пришлось держать на рожке, а после поить ослиным молоком.
Ослицы, которая меня выкормила, когда я уже себя помнил, у нас не было; по миновании надобности ее отправили обратно в «Богдановку», откуда она была взята.
Там был большой табун лошадей, была и ослиная пара. Впоследствии я, таки, увидел ее и поскорбел о ее печальной участи.
В первые годы моего детства меня ужасно «кутали», т. е. слишком тепло одевали, вечно боясь «простудить». Зимы в Николаеве не бывали ни суровы, ни продолжительны. Но я хорошо помню себя в меховой в талии шубке, отороченной по вороту, по груди и по рукавам серым барашковым мхом, и в малиновой, бархатной, отороченной серым же барашком, теплой шапке, с несносными наушниками, подвязанными под подбородком.
И с этой стороны незаменимая «Клотильда», которая очень скоро стала не только верным другом мамы, но и влиятельным авторитетом в дом, пришла мне на выручку.
Оголить мои икры, как она бы хотела, ей так и не удалось, но все же она значительно успела облегчить мою «тяжелую амуницию».
Раньше, в мой шубе и наушниках, я соглашался еще ездить, особенно в санях, когда выпадал снег и стоял мороз, но ходить по зимам совершенно отучился и капризничал, когда в таком виде меня хотели вести гулять.
Теперь же, в драповом пальто или шевьетовой накидке стал довольно охотно ходить пешком и не скоро уставал. Выбегать же во двор уже не смущался, — «в чем был».
Раньше, самое большое, нас довозили в экипаже до бульвара, где на площадке перед ротондой играла два раза в неделю военная музыка, после четырех часов дня.
Марфа Мартемьяновна усаживала нас чинно на скамейке и этим исчерпывались наши развлечения на лоне природы, Правда, на воздухе мы все-таки бывали, так как кататься в экипаже нас возили часто, и бабушкин сад был в полном нашем распоряжении.
Но только с появлением Клотильды Жакото стали открываться для нас некоторые прелести общения с несколько однотонной, но все же южной природой Николаева и его окрестностей.
Урочище «Спасск», на берегу широкого Буга, в глубокой низкой «балке», с его парком и «летним дворцом», возвышавшимся у спуска в парк, было раньше конечным пунктом наших прогулок в экипаже. Теперь именно это затейливое, в восточном стиле, двухэтажное здание, приспособленное под летнее «благородное собрание», стало пунктом отправления нашего в дальнейшие экскурсии.
За «Спасском» тянулось хорошо содержимое шоссе, пересекавшее, во всю их длину, ближние и дальние «Лески», в конце которых опять был какой-то восточного типа «дворец», заколоченный и необитаемый.
По рассказам, оба эти «дворца» и сам «Спасск», парк, с его двумя изумительными источниками питьевой воды, были реставрированным наследием еще турецкого здесь владычества.
По вечерам летом по этому шоссе проезжало много экипажей с катающимися; в зимние же месяцы «Лески» были малолюдны, так как были довольно отдалены от города.
В хорошие дни и весной, и зимой, и осенью, а летом каждый день, пока оставались в городе, мы стали ездить с mademoiselle Clotilde «за Спасск» в «Лески».
Останавливались, где вздумается.
Ранней весной искали подснежники и лесные фиалки, осенью грибы. Летом спускались к реке за ракушками и разноцветными, точно полированными речным прибоем, «кругляшками».
Зимою, пока между деревьями лежал белый снег, бросали друг в друга и в mademoiselle Clotilde снежными комьями.
Она была неутомимый ходок и приохотила и нас к продолжительным прогулкам пешком.
Мало помалу, я окреп и поздоровел, благодаря тому, что много двигался на воздухе.
Мademoiselle Clotilde находила, что климат южной России очень напоминает ей родину. Она бывала в восторге, когда бабушкин сад становился то молочным и благоухающим от цветения акации, то бледно-лиловатым, когда зацветала сирень, то розовато-палевым, когда цвели плодовые деревья.
В «Лесках» сплошные плантации акаций перемежались лишь кое-где с группами конских каштанов, тутовыми деревьями и стройными тополями, вперемежку с ивами, тянувшимися по речной низине.
Ранней весной, при сплошном цветении акаций, «Лески», положительно, выглядели волшебно: точно осыпанные благоуханным, нетающим снегом. К осени загорелые тона листвы красиво играли на солнце красновато-желтым отливом.
Всего хуже «Лески» выглядели летом, когда наиболее посещались. В разгар лета, от недостатка влаги, пыльная листва акаций увядала и вся посадка вдоль шоссе тянулась унылыми, монотонными полосами.
После редких, но сильных, с грозами, проливных дождей лески вновь оживали, прихорашивались, между деревьями зеленела трава и появлялись полевые цветы; красный мак по преимуществу. И так до новой засухи.
Mademoiselle Clotilde, очень внимательная ко всем таким видоизменениям в природе, научила и нас замечать их.
Нечего и говорить, что, благодаря своей жизнерадостности, природной доброте и прекрасному ровному характеру, «наша гувернантка» очень скоро перестала быть в моих глазах «гувернанткой», с которой, в каком-либо отношении, надо держать себя на стороже, а сделалась, после мамы и дяди Всеволода, самым дорогим для меня существом. Боязнь огорчить ее, лучше всяких внушений и кар, стали удерживать меня от капризов, лени и многих шалостей, приходивших порою в голову.
Особенно «заобожал» я милую mademoiselle Clotilde, когда она дважды, как-то незаметно, но властно, пришла мне на выручку в очень важных для меня обстоятельствах.
Сестра брала уже уроки музыки и играла недурно.
В зале стояло большое фортепьяно и, когда она садилась за него со своим «горбатеньким», почти карликового роста, учителем музыки, Бельвейсом, их из-за инструмента едва было видно.
Бельвейс, по происхождению чех, очень славился в городе, как пианист и преподаватель, и был нарасхват.
Мама непременно хотела и меня учить «музыке», т. е. играть на рояле.