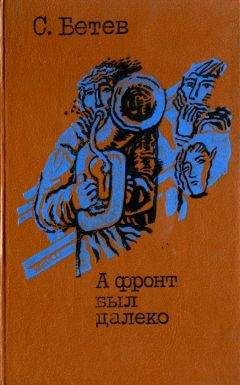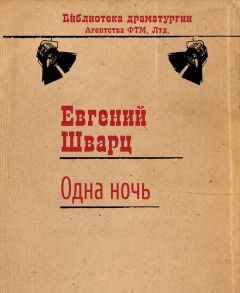Эл Алонсо Дженнингс - С О. Генри на дне (фрагмент)
Это была традиция — подбодрить человека перед последней встряской.
Кид оттолкнул стакан, расплескав виски по полу. Он покачал головой, его трясущаяся челюсть отвисла.
— Мне ничего не надо, спасибо.
В лице юноши не было ни кровинки, точно его посыпали мукой, а испуганные глаза перебегали со стула на начальника. Он заметил меня.
Никогда еще я не чувствовал себя таким низким животным, участником такой гнусной оргии, как в этот раз.
— О мистер Эл, здравствуйте, здравствуйте.
Его голова закивала мне, и я увидел большое, круглое, чисто выбритое место на макушке. Один из электродов будет прикреплен к этому блестящему лоскутку кожи.
— Здравствуйте, мистер Эл, видите, я не боюсь… Что я вам говорил? Я ни капельки не боюсь.
Платье Кида было распорото по заднему шву так, чтобы ток мог свободно пройти по телу. Его подвели к стулу, усадили, привязали руки и плечи к ручкам и приладили ремни. К голым икрам и к основанию мозга приложили электроды.
Немного понадобилось времени, чтобы привести все в порядок, но мне чудилось, что этому гнусному делу никогда не будет конца. Несчастный юноша, казалось, готов был вот-вот соскользнуть на пол, словно кости его вдруг превратились в студень, но жесткие ремни заставляли его сидеть прямо.
Дэрби подошел к Киду и назвал его по имени.
— Сознайтесь, Кид, — начальник пыхтел и отдувался, словно готовый к отходу паровоз. — Только сознайтесь, и я спасу вас. Я добьюсь для вас помилования.
Кид смотрел на него широко раскрытыми глазами и бормотал:
— Говорю вам, что я не боюсь.
— Сознайтесь, Кид, — орал на него Дэрби, — и я выпущу вас!
Кид наконец услышал. Он сделал усилие, чтобы ответить. Губы его задвигались, но никто из нас не мог расслышать ни единого слова. Наконец раздались слова:
— Я не виновен. Я никогда не убивал его.
Начальник повернул рычаг. Синее пламя метнулось вокруг головы Кида, опалив ему волосы, и лицо его выступило вдруг точно обрамленное молнией. Страшный ток скорчил в судорогах тело Кида; оно затрепетало, словно кусок колючей проволоки, когда один конец ее внезапно отрежут от изгороди. В тот момент, когда ток проходил через тело юноши, с губ его слетел легкий крик. Рычаг повернули обратно. Кид был мертв.
Долго в эту ночь мы с Портером просидели молча, будучи не в силах обменяться ни единым словом. Вся тюрьма, казалось, была подавлена каким-то отвратительным, гнусным кошмаром. Арестанты чувствовали, что на дворе в солнечном пятне не достает Кида. Они знали, что его казнили.
— Полковник, возлагаете ли вы какие-нибудь определенные надежды на потусторонний мир? — Портер держал в руке стакан вина, который он подносил к губам. Мошенники как раз прислали нам новый ящик дорогих вин.
— Дайте-ка мне глоток этого вина, Биль. Оно должно вызвать божественный подъем — раз, два, и взлетишь на небо.
Портер пропустил это мимо ушей. Не время было для шуток.
— Я не говорю, конечно, о поповском рае. Но как вы все-таки представляете себе вечное блаженство?
— В данную минуту оно рисуется мне в виде пещеры, затерянной где-нибудь далеко в глубине пустыни, куда не могут проникнуть люди. Я хотел бы иметь много скота и лошадей, но чтобы вокруг не было никаких следов человеческого рода, за исключением нескольких книг.
— Нет, книги испортили бы все дело. Разве вы не понимаете, полковник, что Змею, который погубил первых обитателей рая, было имя — Мысль. Адам, Ева и все их несчастное потомство до сих пор проживали бы в блаженном неведении на берегах Евфрата, если бы Еву не ужалило желание знать. Это величайшая заслуга женщины. Мамаша Ева была первая мятежница, первый мыслитель.
Портер, по-видимому, сам увлекся своим красноречием. Он кивнул головой, как бы желая подкрепить свой вывод.
— Да, полковник, — продолжал он, — мысль — великое проклятие. Когда мне приходилось бывать на техасских пастбищах, я часто завидовал овцам, щипавшим траву в степи. Они выше людей. Они не знают раздумья, сожалений, воспоминаний.
— Вы ошибаетесь, Биль, овцы умнее людей. Они думают о самих себе. Они не присваивают себе власти, которая принадлежит природе или Провидению — называйте это, как вам будет угодно.
— Вот это именно я и хотел сказать. Они не думают, поэтому они счастливы.
— Как вы глупы сегодня, Биль. Вы могли бы с таким же успехом восторгаться радостями небытия. Если мысль делает нас несчастными, то ведь она же доставляет нам и величайшие радости.
— Если бы я не думал, я находился бы сегодня вечером в самом блаженном состоянии. Меня не давила бы целая тонна бесполезного возмущения и злобы.
— А с другой стороны, если бы вы не думали, вы были бы неспособны переживать величайшие радости.
— В этом мне нужно будет еще убедиться. Пока же я настаиваю: мысль — это проклятие. На ней лежит ответственность за все пороки рода человеческого, за развращенность, которая является монополией царя природы. Полковник, казнь Кида — только лишнее подтверждение порочности мысли. Люди думают, что то-то и то-то было, и заключают отсюда, что иначе и быть не могло. Это своего рода гипноз.
Портер никогда не отличался последовательностью в своих философских размышлениях. Он начинал с какой-нибудь причудливой нелепости и пользовался ею как нитью для четок своей фантазии.
Тут он подбирал какую-нибудь мысль, там парадокс «и нанизывал их одно за другим. В целом же ожерелье напоминало те цепи из причудливо подобранных талисманов, которые делают индейские женщины.
— Эл! — Он повернулся ко мне с беспечным видом, стараясь скрыть тревогу, таившуюся в душе. — Он был виновен?
Та же мысль в этот момент мучила и меня.
Оба мы весь вечер ни о чем другом не думали.
— Полковник, ужасы этого дня состарили меня. Я каждую минуту чувствую на своем плече его ласковую веснушчатую руку. Я вижу, как его кроткие глаза улыбаются мне. Я верю ему. Я убежден, что он был не виновен. А вы? Вам много раз приходилось видеть, как люди встречают смерть. Мужчина может упорствовать во лжи. Но такой мальчик, ребенок, разве он мог бы так упрямо цепляться за нее?
— Большинство преступников, не признавших себя виновными сразу, обычно до последнего вздоха настаивают на своей невиновности. Не знаю, как насчет Кида. Мне кажется, он говорил правду. Я чувствую, что он не виновен.
— О Эл, какой ужас, если они убили ни в чем не повинного мальчика! Какая непростительная наглость — присуждать к смерти на основании косвенных улик. Разве это не доказывает вам, как высокомерна мысль? При наличии одних только косвенных улик не может быть абсолютной уверенности в факте — какое же право мы имеем в таком случае налагать непоправимую кару? Свидетельские показания могут быть опровергнуты; обвинение может пасть, но казненного не воскресишь из мертвых. Это чудовищно. — Он помолчал, потом продолжал: — Я прав, полковник, несмотря на все ваши возражения. Мысль, не сдерживаемая смирением, это кнут, подстегивающий человеческое высокомерие до истинного безумия. С другой же стороны, мысль, не ослепленная верой в свою непогрешимость, является дубинкой, прибивающей все стремления человека и ввергающей его в полное отчаяние.